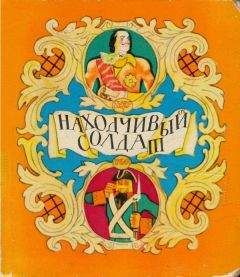Стоило ему прикоснуться к чему–нибудь таинственному, непонятному или загадочному, как оно тут же становилось будничным, простым и попятным. К этому тоже нелегко было привыкнуть.
Придерживая сползавшую шинель, Нечаев шагал за Мещеряком вдоль штакетника. Ни по ту сторону штакетника, ни на огородах, примыкавших к подлеску, никаких следов, похожих на те, которые сохранились в палисаднике, не оказалось. Вчера ночью Мещеряк не ошибся.
— Ничего не понимаю… — признался Нечаев.
Его удручало то, что он ничем не может помочь Мещеряку. Ну какой из него следопыт?.. У него было такое чувство, словно он только мешает своему старшему другу. То ли дело было раньше, в Одессе… Там Нечаев знал, что должен овладеть «дельфином», знал, что ему предстоит… Рисковать жизнью? На это он был способен. Бродить по немецким тылам, брать языков… Этому его учили. Но как распознавать врагов среди своих? Мог ли он думать, что такой человек, как художник Кубов, окажется предателем?..
Эта история с портретом до сих пор не выходила у него из головы. И вот, на тебе, новая история, и снова надо искать, идти по следу, сомневаться, надеяться… Нет, эта шапка не по нем.
— Это хорошо, что ты ни черта не понимаешь, — сказал Мещеряк. — Не люблю людей, которым сразу же все ясно. Если кажется, что все просто и понятно, то это значит, что ты ошибаешься, что тебя провели… Никогда не надо думать, будто имеешь дело с дураками.
Сказав это, он выпрямился и достал кожаный кисет. Со вчерашнего дня у него и маковой росинки во рту не было. Да и вечером Нечаев его угостил пустым кипятком. Но возвращаться в дом ему не хотелось. Зачем обременять людей? Локтевы, он знал это, получали не такой уж большой паек.
— Пройдемся?
— Можно, — охотно согласился Нечаев, и по его голосу Мещеряк догадался, что тот его понял. Иначе, спрашивается, чего б он извлек из кармана вчерашнюю галету и переломил ее надвое? Вот за эту понятливость
Мещеряк его и любил.
Они вышли за ограду.
Вдоль проселка шагали телеграфные столбы. На проводах, нахохлившись, сидели воробьи. Земля была по–зимнему твердой и гулкой.
В лесу, однако, еще лежал мертвый снег. Мещеряк остановился. Точно такой же снег лежал и в Подмосковье. В декабре. Впрочем, тот снег был еще нежным, чистым. Даже в воронках. А на проводах тогда сидели не воробышки, а зоревые снегири…
Но ему так и не удалось углубиться в свои воспоминания. На проселке показалась машина командира бригады, и когда она остановилась, Мещеряк увидел майора Петрухина.
— Разгуливаете? — спросил майор. По его лицу было видно, что настроен он воинственно. — Вижу, вижу… А я еще не ложился. Ваши, между прочим, уже прочесали лесок…
Мещеряк промолчал. Не в его привычке было расспрашивать.
— Никаких следов, — снова сказал Петрухин. — Целина… Мои люди на вокзале. Но мне кажется, что мы не там ищем, капитан. Враг у нас под боком.
Рыхлое лицо майора было в мелких морщинках и мягких складочках. Его маленькие злые глазки заплыли жиром. Кого он подозревает? И на каком основании?..
Выдержав паузу, Петрухин спросил:
— Вы обратили внимание на этого подполковника? Мне он сразу не понравился. Старался быть спокойным, журнал перелистывал, а у самого ручки дрожат… И все время разглядывал свои ноги…
Вот оно что!.. Мещеряк напрягся. На что намекает Петрухин? Сам Мещеряк, признаться, вчера не обратил внимания на то, что было на ногах у подполковника Белых. Сапоги? Возможно, подполковник был в форме. Он высок ростом, грузен… Но Мещеряку почему–то не хотелось, чтобы Петрухин оказался прав. То, что лицо подполковника Белых не вызывало к себе симпатии, еще ни о чем не говорило. Простое, некрасивое лицо. Быть может, даже неприятное. Вислый нос, старомодное пенсне… Но ведь и Мещеряк тоже далеко не красавец. И Петрухин…
Майор Петрухин продолжал сидеть в машине, придерживая рукой открытую дверцу.
— Вы уверены…
Петрухин посмотрел на Мещеряка о сожалением. Ох уж эти военные следопыты!.. Напрасно он просил у них помощи. Тоже мне помощнички!..
— Милиция не ошибается, капитан. Если мы подозреваем человека, у нас есть на то основания, — сказал он о себе во множественном числе и опустил кулак на дерматиновую папку, которая лежала у него на коленях. — Вот так–то… — Оп не знал, что Мещеряк когда–то работал в угрозыске.
— По–вашему, нам здесь делать нечего? — спросил Мещеряк. — Ошибаетесь, товарищ майор. У нас свое начальство. Мы получили приказ и должны его выполнить,
— Ну, это меня не касается… — Петрухин улыбнулся и захлопнул дверцу.
Петрухин, как потом выяснялось, не терял времени даром. Он был упрям и настойчив. Факты опровергают его версию? Тем хуже для… фактов. Петрухин был уверен, что все дело в том, в каком порядке эти самые факты расположить. Вместо того, чтобы сопоставлять их друг с другом, он подгонял их под заранее разработанную схему. Так ему было проще, удобнее.
Считал ли майор себя непогрешимым? По всей видимости, нет. Когда начальство распекало его, он всегда признавал свою вину: виноват, прошляпил… Но до этого он считал себя правым. У него не было ни времени, ни желания бродить в потемках, доискиваясь до истины. Куда проще было идти напролом и, заподозрив человека, добиться от него признания своей вины. В этом случае отпадала необходимость искать доказательства. Какие нужны еще доказательства, если человек сам признается в преступлении?
Майор Петрухин был службистом. Аккуратным, исполнительным. Сомнения? Они ему были неведомы. Угрызения совести? Он считал, что это интеллигентские штучки… Петрухин всегда был озабочен лишь тем, чтобы поскорее «закрыть дело».
А для этого все средства были хороши. Угрозы, посулы, откровенная лесть… Петрухин пользовался ими умело. Он достаточно поднаторел на следственной работе. Во всяком случае до сих пор «брака» в его делах не было. И это давало ему право думать, что он всегда быстро и правильно справляется с самыми трудными делами, справляется сам, без посторонней помощи. Вот и теперь уж он–то прижмет этого подполковника, будьте уверены… В папке Петрухина лежала анкета подполковника Белых, с которой он уже успел ознакомиться. Посмотрим, что запоет подполковник, когда Петрухин напомнит ему кое–какие факты из его биографии… Например, двадцатый год, когда его уволили из армии. Потом, правда, его снова призвали, но из песни, как говорится, слов не выкинешь… К тому же через часок–другой в распоряжении Петрухина будут и другие факты…
Можно себе представить, что довелось пережить подполковнику Белых в этот пасмурный апрельский день. Отличаясь душевной деликатностью, даже застенчивостью, он, надо думать, сотни раз менялся в лице. Поминутно вытирая пот, струившийся за воротник кителя, он то снимал, то надевал пенсне и никак не мог унять волнения. Его руки дрожали тем сильнее, чем громче рычал на него сидевший за его же столом одутловатый майор, судивший о других, очевидно, по себе, и уверенный в том, что дыма без огня не бывает, и эта дрожь является верным признаком виновности собеседника. Заметив растерянность подполковника, Петрухин усиливал нажим. II по мере того, как майор распалялся, в нем крепла уверенность, что он находится на правильном пути и уже близок к развязке. Еще несколько минут — и он «расколет» этого упрямого подполковника.
Тщетно подполковник Белых взывал к логике и пытался доказать Петрухину свою непричастность к этому делу. Зачем, спрашивается, ему могла понадобиться записная книжка конструктора, если по роду своей службы он имеет постоянный доступ ко всем секретным материалам?.. В его распоряжении находятся все чертежи, они проходят через его руки, и если бы он захотел воспользоваться ими, то…
— Захотели?.. Стало быть, такая мысль вам приходила в голову? — Майор Петрухин подался вперед. — В этом вы по крайней мере признаетесь?
— Что вы!.. — Подполковник Белых отшатнулся и побледнел. — Этого я вам не говорил…
— А кто, по–вашему, это сказал? Может быть, это мои слова? Кроме нас, в этой комнате никого нет. Слушайте, Белых, пора кончать комедию. Для вас же лучше будет, если вы чистосердечно признаетесь. Нет, не во взломе сейфа, а в том…
Он говорил еще долго. Петрухин наслаждался своей властью. Ему доставляло удовольствие приводить в трепет других, особенно если эти люди были умнее и образованнее его самого, и он инстинктивно чувствовал их превосходство. Сам он был не храброго десятка, легко шел на сделки с собственной совестью и поэтому люто ненавидел тех, в ком угадывал внутреннюю силу и душевную чистоту.
Иногда, правда, ему приходило в голову, что сам он тоже может очутиться по другую сторону такого же двухтумбового стола, и от этой мысли его прошибал пот. Но трусом он не был. Больше того, при определенных обстоятельствах он был бы способен проявить даже храбрость и отвагу, ибо своим положением, своей карьерой он дорожил больше жизни. Именно поэтому он не мог допустить мысли, что есть люди, для которых убеждения и честь дороже самой жизни.