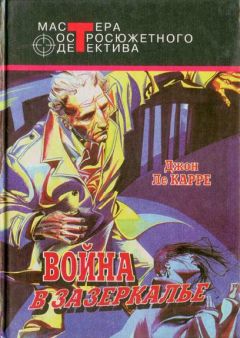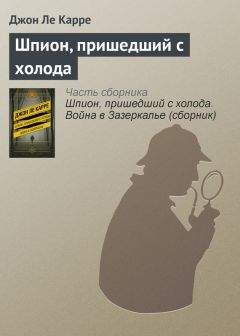— А теперь, Гейл, пожалуйста, расскажите о тех девочках, которые сели рядом с вами, — попросил Люк.
Ивонн играла роль прокурора, Люк изображал ее помощника, а Гейл сидела на свидетельском месте, стараясь не утратить самообладания, — именно это она советовала своим подопечным, угрожая в противном случае отлучением.
— Девочки уже сидели наверху, Гейл, или они подбежали к вам, как только увидели? — спросила Ивонн, покусывая карандаш и изучая свои пометки.
— Они сами поднялись ко мне. Не бегом, а шагом.
— Смеялись? Улыбались? Шалили?
— Ни единой улыбки. Ни намека на улыбку.
— Может быть, девочек отправил к вам тот, кто должен был за ними присматривать?
— Они пришли исключительно по собственной инициативе. Таково мое мнение.
— Вы уверены? — настойчиво уточнила Ивонн. Ее шотландский акцент усилился.
— Я видела, как это было. Марк начал со мной заигрывать, поэтому я поднялась наверх, чтобы оказаться как можно дальше от него. На той скамейке не было никого, кроме меня.
— Где в ту минуту сидели малютки? Ниже? На том же ряду? Где?
Гейл сделала вдох, чтобы собраться с мыслями, и ответила взвешенно, четко:
— «Малютки» сидели во втором ряду, по обе стороны от Элспет. Старшая обернулась и посмотрела на меня, потом заговорила с Элспет. Нет, я не слышала ее слов. Элспет тоже обернулась и посмотрела на меня, потом кивнула. Тогда девочки посовещались друг с дружкой, встали и пошли наверх. Не бегом. Медленно.
— Не давите на нее, — сказал Перри.
Свидетельство Гейл звучало весьма расплывчато. Так казалось и ей самой — профессиональному адвокату — и, несомненно, Ивонн. Да, девочки подошли к ней. Старшая сделала реверанс — должно быть, научилась на уроках танцев — и очень серьезно спросила по-английски, с легким иностранным акцентом:
— Можно сесть с вами? Пожалуйста, мисс.
Гейл рассмеялась и сказала:
— Конечно, мисс.
Девочки сели по бокам, по-прежнему без единой улыбки.
— Я спросила у старшей, как ее зовут. Шепотом, потому что все вокруг молчали. Она сказала: «Катя». Я спросила: «А как зовут твою сестренку?», и она ответила: «Ира». Ира повернулась и уставилась на меня так, будто я допытываюсь о чем-то очень личном, — я страшно удивилась, откуда такая враждебность. Я спросила обеих: «Ваши мама и папа здесь?» Катя энергично помотала головой, Ира вообще не отреагировала. Мы посидели молча. Вот уж не думала, что дети могут молчать так долго. Я решила: может быть, им запрещают болтать во время теннисных матчей. Или разговаривать с посторонними. А может, они больше ничего не знают по-английски, или у них аутизм, или они умственно отсталые.
Гейл прервалась, ожидая одобрения или вопроса, но две пары внимательных глаз оставались непроницаемы. Перри сидел рядом, склонив голову набок; от кирпичных стен пахло как от ее покойного отца-алкоголика. Гейл мысленно набрала полные легкие воздуха, точно ныряльщик перед прыжком.
— В перерыве я попробовала еще раз: «Где ты учишься, Катя?» Катя покачала головой, Ира тоже. Они вообще не ходят в школу? Нет, ходят, но не сейчас. Они учились в Британской международной школе в Риме, но больше там не учатся. Никаких объяснений — да я их и не просила. Не хотелось показаться назойливой, но меня терзало какое-то смутное нехорошее ощущение. Значит, вы живете в Риме? Уже нет, сказала Катя. Так это там вы научились так здорово говорить по-английски? Да. В школе можно было выбрать английский или французский. Английский лучше. Я указала на двух подростков — сыновей Димы. Это ваши братья? Девочки помотали головами. Кузены? Да, почти кузены. Почти? Да. Они тоже учатся в международной школе? Да, только не в Риме, а в Швейцарии. А вон та красивая девочка, которая с головой ушла в книгу, — она тоже кузина? Снова ответила Катя, и ее слова прозвучали как признание на допросе: «Да, Наташа наша кузина… почти». Опять «почти». И ни одной улыбки. Зато Катя трогала мой шелковый саронг, как будто раньше никогда не видела шелка.
Гейл сделала глубокий вдох. Ничего страшного, твердила она себе. Это лишь вступление. Подождите до завтра — вас ждет пятиактная драма с ужасами. Задним умом все крепки.
— Потрогав шелк, она положила голову мне на плечо и закрыла глаза. Светская беседа прервалась минут на пять. Ира, которая сидела с другой стороны, последовала примеру сестры и схватила меня за руку ловкими сильными пальчиками. Она буквально вцепилась в меня, прижалась лбом к моей ладони, как будто хотела, чтобы я проверила, нет ли у нее температуры. Щеки у девочки были мокрые, и я поняла, что она плачет. Потом Ира выпустила мою руку, а Катя пояснила: «Она иногда плачет, это нормально». Вскоре игра закончилась, и Элспет бегом поднялась к нам, чтобы забрать детей. Мне очень хотелось завернуть Иру в подол и забрать домой, желательно вместе с Катей, но поскольку сделать этого я не могла, и к тому же понятия не имела, отчего она расстроилась, и вообще ничего о них не знала… на том все и кончилось.
На самом деле ничего, разумеется, не кончилось. Только не на Антигуа. История развивалась своим чередом. Перри Мейкпис и Гейл Перкинс наслаждались лучшим отпуском в своей жизни — именно так, как они пообещали друг другу в ноябре. Чтобы напомнить себе о том, как она была счастлива, Гейл прокрутила в уме полный список удовольствий.
В десять часов, после тенниса, вернулись в номер, чтобы Перри мог принять душ.
Занялись любовью (прекрасно, мы до сих пор на это способны). Перри ничего не делает кое-как. Все его внимание неизменно сосредоточено на чем-нибудь одном.
Полдень или чуть позже. Опоздали на завтрак по уважительной причине (см. выше), искупались в море, пообедали у бассейна, вернулись на пляж, потому что Перри непременно хотел обставить меня в шаффлборд.
В четыре часа вернулись с торжествующим Перри в коттедж — и почему он хоть разок не даст девушке выиграть? Вздремнули, почитали, снова занялись любовью, опять вздремнули, потеряв счет времени. Допили вино из мини-бара, сидя на балконе в халатах.
Восемь вечера. Решили, что одеваться лень, и заказали ужин в номер.
Лучшие в жизни каникулы еще продолжались. Мы все еще нежились в раю и жевали чертово яблоко.
Около девяти принесли ужин — его вкатил на тележке не какой-нибудь официант, а почтенный Амброз собственной персоной, и с собой у него, помимо скверного калифорнийского вина, которое мы заказали, покрытая изморозью бутылка винтажного шампанского в серебристом ведерке со льдом (триста восемьдесят долларов плюс налог), два матовых бокала, тарелка аппетитных канапе, две камчатные салфетки и заготовленная речь, которую он выкрикивает, выпятив грудь и вытянув руки по швам, точно полицейский в зале суда.
— Эту бутылку отменного шампанского шлет вам не кто иной, как мистер Дима лично. Мистер Дима велит поблагодарить вас за… — Амброз извлек из кармана рубашки записку и очки, — я цитирую: «Профессор, от всей души благодарю вас за прекрасный урок великого искусства игры в теннис и за то, что вы английский джентльмен. И спасибо, что сэкономили мне пять тысяч долларов». Также мистер Дима просит от его лица выразить восхищение прекрасной мисс Гейл. Вот что он хотел сказать.
Мы выпили пару бокалов и решили прикончить бутылку в постели.
— А что такое «мраморное мясо»? — в какой-то момент спрашивает Перри.
— Трогал когда-нибудь девушке животик?
— Даже помыслить о таком не могу, — отвечает он — угадайте чем занимаясь?..
— Молодые телочки, — объясняю я. — Их поят саке и лучшим пивом. Каждый вечер массируют живот, чтобы должным образом подготовить к бойне. Эта технология — интеллектуальная собственность, — добавляю я, хотя сомневаюсь, что Перри слушает. — Мы возбудили против них дело и выиграли.
Я засыпаю, и мне снится пророческий сон, черно-белый, как пленки сороковых годов. Я в России, где с маленькими детьми случаются всякие беды.
Над Гейл сгущаются тучи — и в подвале тоже заметно потемнело. День меркнет, и тусклая лампа на потолке, над столом, горит все слабее, а кирпичные стены сделались черными. Шум транспорта на улице затихает, и мимо матовых окон все реже мелькают ноги прохожих. Массивный, добродушный Олли, уже без берета, принес четыре чашки чаю и тарелку печенья и исчез.
Хотя это тот же самый Олли, который недавно вез их в черном такси от дома Гейл, становится понятно, что он не настоящий таксист, несмотря на значок, приколотый к широкой груди. Олли, по словам Люка, «удерживает нас на узкой тропе добродетели», но Гейл сомневается. Шотландская кальвинистка не нуждается в наставнике-моралисте, а что касается жокея с блудливым взглядом и обаянием истинного джентльмена — то ему уже слишком поздно.
И потом, Олли, по мнению Гейл, для настоящего слуги чересчур редко попадается на глаза. Также ее озадачивает его сережка — это сексуальный сигнал или просто украшение? И голос — когда Олли разговаривал с ними через домофон на Примроуз-Хилл, Гейл решила, что он стопроцентный кокни. Но когда в такси он принялся болтать об отвратительной погоде в мае — «и это после такого дивного апреля, господи, да ведь все цветы полегли от вчерашнего ливня!» — Гейл уловила иностранные интонации, и вдобавок шофера начал подводить синтаксис. Какой же язык ему родной? Греческий? Турецкий? Иврит? Или голос, как и сережка, — это трюк, к которому Олли прибегает, чтобы дурачить простаков?