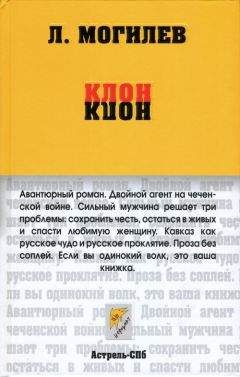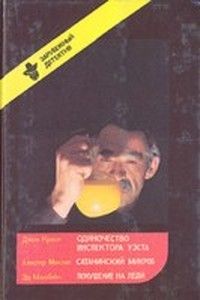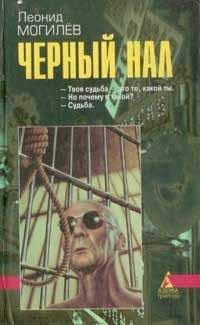Я стал собираться в путь. Гардероб распределил функционально и целесообразно. Зимняя шапочка, тушенка в железных банках, хохлацкая колбаса твердого копчения, бульонные кубики, суп в пакетах, печенье. Спирта медицинского в одну флягу солдатскую влил по самые уши, а в другую — джина капитанского. Трусы обшил поясками тайными — рубли и баксы, неприкосновенный запас и стратегический.
Грозный. Утро того самого Нового года
Она уснула счастливой и оттого спала крепко и безвозвратно. Новогодние сны материализовались, прошли вдоль стены и покинули дом. Когда пришел миг возвращения к яви и недоумению, она была в доме уже одна.
Машинально она проверила, на месте ли деньги и вещи, но все оказалось целым, и тогда слезы неожиданные и напрасные полились из глаз. Уехал литератор. Явился невесть откуда, заморочил, добился своей смешной цели и сбежал. Впрочем, оставил все же листик со стихами.
Она начала читать, но слезы мешали. На столе бутылка шампанского недопитая, нашлась и водка. Целый фужер нацедила, долго пила, давясь, наконец осилила, тронула вилкой салат, почистила мандаринку, поставила кофейник. Теперь можно было прочесть нескладные вирши.
Я думал о тебе. В трагическом наитье,
Был милосердным свет слепого фонаря.
Я думал о тебе, и мир на тонкой нити
Качался, как фонарь, печалясь и горя…
Зачем вообще она это все себе устроила и позволила? Свалилась как снег на голову в Грозный, дома никого, дела в институте нехороши — и нужен ли этот институт вовсе? Дела сердечные не состоялись, а тут этот, с чебуреками и стихами. Кто угодно, только не поэт. Хотя бы вечера дождался, город бы посмотрел.
И комнате моей так не хватало смысла,
И память пустослов все целила под дых,
Взошла моя печаль, за наледью повисла,
И гладила лицо, и трогала кадык.
И все у них, у литераторов, наморочено. Все у них трагедии и драмы, все кадыки и петли. Все бы сбегать и в поезда прыгать. Ненадежные люди и несуразные. Она и шампанского хлебнула. Заварила кофе растворимого, покрепче, и стала читать дальше.
Я думал о тебе, приблизившись на йоту.
И воплощалась жизнь в созвездии лица.
Что в имени твоем, то близком, то далеком?
Приходит новый день. Дай Бог ему конца.
Больше ничего, кроме даты. Первое января и год.
И тут вдруг ей подумалось, что он и не ушел вовсе, а вышел просто погулять и вернется сейчас. А сумку свою он взял рефлекторно и из любви к порядку. Она оделась и вышла во двор.
Дом ее первый на Индустриальной, и на первом этаже — гастроном. Он заперт сейчас, этот смешной магазин, продавцы, завотделами и толстый директор спят тяжелым похмельным сном. Она свернула за угол и по Парафиновой пошла к Социалистической. В окнах интерната горел свет. Тяжело встречать Новый год в больнице. Лучше уж в детдоме. Еще лучше с милым в шалаше, но это она только что испытала. На углу Абульяна и Социалистической к ней привязались пьяные мужики. Шли долго, но она нехорошо выругалась и плюнула на землю. Что-то в ней было сейчас такое, твердое. Отстали.
Оставалось поле внутри квартала. Абрикосовый сад со скамеечками и беседкой. Поэт не мог не быть здесь. Удивленные пальцы черных деревьев и краткая вера. Наверняка он где-то здесь шатался. Весной он бы не сбежал. Весной здесь рай. Абрикосовые деревья в цвету и промытая дождем черепица старых крыш. Там, где жили специалисты, — три этажа и балкончики. Там, где рабочие, — два этажа, и вечером можно просто открыть окно. Заводской район. Квартал локального счастья. На свежем снегу не нашлось его следов.
Трамвайчик «двоечка» простучал по рельсам. Новый год начался. Она попробовала подумать об омуте и потому отправилась на пруд, который по сей день назывался Сталинским.
Не нашлось его и здесь. Только трубы ТЭЦ и дым над ними. Зима выдалась теплой, и пруд не замерз еще. Может быть, он не замерзнет и вовсе. Она представила себя на дне, там, где осколки бутылок, банки из-под консервов и прочая дрянь, и взбодрилась. Только вот возвращаться в пустую квартиру не хотелось.
…Город был еще пуст и свободен от суеты и миражей дня. На автобусе, невесть откуда взявшемся из предутренних сумерек, она добралась до проспекта Революции. Здание Русского театра, основательное и монументальное, с рожками фонтанов, на которых снег и межвременье, — продолжение прогулки. Снег шел всю ночь необычайно густой и мокрый. Скрывал следы и приметы. Деревья, голые и жалостливые, тянули к небу ветви, снег лежал на них… Холодный и мокрый. Потом ее подвозили случайные попутки, потом она сама не могла вспомнить, где шла, где ехала. А где перемещалась сквозь времена и улицы в своем воображении. Морок новогодней ночи не отпускал ее.
Она шла к Лермонтовскому скверу. Михаил Юрьевич ждал ее у входа. Бюст его — в пелене и сырости. Наверное, таким же был, как прочие. Чебуреки и водка. Или что там они пили. Жженку, кларет. Да хоть портвейн «Агдам». Все они одним миром мазаны, господа литераторы.
Над берегом Сунжи она присела на скамеечку. Хмель утренний отошел, а хмель ночной и тяжелый остался. Остался камень на душе. А у Михаила Юрьевича был на этот случай совет:
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей,
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
Она замерзла, и ей захотелось опять домой. Прибраться, помыть посуду, включить телевизор и уснуть. А там — будь что будет.
Как и зачем Федор Великосельский отправился в Чечню
До меня уже были ходоки в Чечню. Не было бы поездки Феди Великосельского и того, что после вышло, я, возможно, и любовь свою виртуальную похерил бы. Время не то. Но — если бы да кабы.
Историю своего короткого и печально-возвышенного поступка он рассказал мне перед командировкой. Без этой его дурацкой затеи с романом я бы не решился на это путешествие к утесам и лугам счастливейшей охоты. Правду знают многие, да ведь сказать все равно не дадут. Веретено газетных информашек и телесюжетов слишком красиво вертится, чтобы соткать истину.
Работал он корреспондентом не самой последней в городе газеты, а все подобные издания лежат сейчас на боку. Приближался его юбилей, нужно было отдавать долги и набирать новые, смиряться с мыслью, что жизнь, в общем-то, прошла. Он думал, что работает просто за деньги, а на самом деле поверил, что получится книжка.
И если Федя сбежал на войну из-за нужды и веры в мираж истины, то моя несбывшаяся была там, за линией фронта. И я должен был увидеть ее, или место то скорбное посетить, чтобы завыть на нем, подобно волку.
— Документы его — вот они. В целости и сохранности. Я их у него забрал. Они у него в потайном карманчике лежали. Никаких корреспондентов с нами быть не должно было в принципе, но у него друган был, офицер из второй бригады. Они в школе вместе учились. И поскольку никакой большой войны в тот день не предполагалось, одели мы гостя нашего в камуфляж, все чин по чину, вооружили его немного, мало ли что. Он поклялся от меня ни на шаг не отходить. Иначе мы ни за что не отвечали. Много интересного могло сдуру произойти, так и вышло. Столько хорошего произошло, что одного дня на все добрые дела оказалось мало. То есть, как только седьмого числа мы вошли в поселок и начали продвигаться по улицам, стали нести потери. Но никуда уже было не деться, и корреспондент твой, в мгновение ока превратился в бойца. Произошло это как-то само собой. Видно, рефлекс у него сработал. Когда он свалил первого чеха, я только крякнул. А что дальше было, вспоминаю какими-то фрагментами. И парня этого, Федора, временами терял, но он приказ выполнял четко, прикрывал мне спину.
Боеприпасов у нас не хватало, и мы их забирали у раненых и убитых. Когда группа двигалась, то все время били последних. Причем старались не убивать, а только ранить. Раненому больно… он на помощь звать начинает. А товарищ — святое, и мы за ним возвращаемся. Под это дело человек пять нужно. И вот тогда-то они и начинали бить на убой. По-настоящему. И Федька помогал тащить раненых, и ничего с ним не случалось. Только лицо посекло камешками.
Когда стало темнеть, ранили одного снайпера из нашей бригады. Мы и подбежали, а рядом БТР встал, чтобы прикрыть броней. Мы нашего снайпера хотели в машину загрузить, а она полностью забита ранеными. Мы тогда его поверх брони уложили, и пару бойцов я дал, рядом сели, чтобы прикрыть. Федьку я хотел было отправить с этим бэтээром, но что-то меня удержало. Решил, что если ему сегодня везет, то и мне фарт выпадет.
Бэтээр ушел, а нас осталось четверо и еще один офицер. Я говорю: «Давай сейчас попробуем к нашим прорваться». А группа уже ушла вперед. Они нас все время так растягивали. А тот запал на то, что нам бэтээры еще обещали и они вот-вот придут. Приказ у него такой был. Я говорю: «Да нас сейчас всех перевалят, а у меня один патрон в магазине». А он все про подкрепление. И пошли мы с Федькой вдвоем.