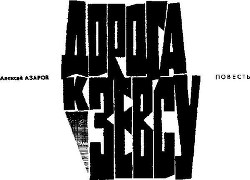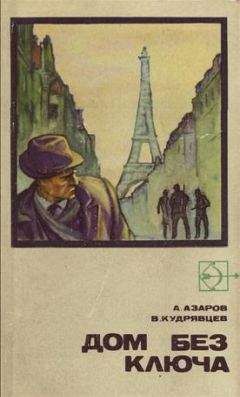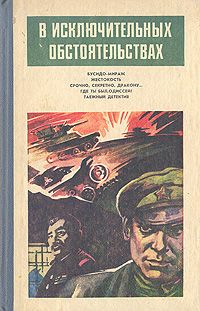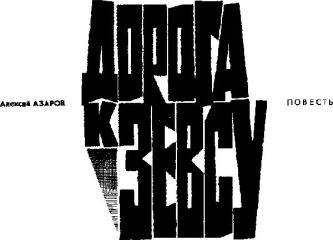— Всегда к услугам господина советника! — браво говорю я и покидаю кабинет следом за дежурным, оставив Цоллера решать чисто гамлетовский вопрос: быть или не быть?
7
В Монтре я сидел в старой камере, унаследованной СД от “Сюртэ женераль”; парижское гестапо предоставило мне подвал особняка в Булонском лесу — малоуютное помещение, где в иные, добрые времена хранились колбасы и окорока; служба безопасности берлинского района Панков, в свою очередь, выделила Францу Леману крохотный закуток с окном на задний двор. Стены комнатки окрашены в развеселенький оранжевый квет; воздух густо настоян на карболке. Деревянная скамья намертво посажена в бетонный пол, и, расположившись на ней, я тщетно пытаюсь задремать.
Прошло уже три с половиной часа, а советник Цоллер и не думает вызывать меня. Что-то произошло. Но что? Меня слегка познабливает от холода и тревоги, и я с головой забираюсь в свое видавшее виды пальто…
“Жизнь — это патефон”, — любил говаривать ротный повар, отлынивавший от передовой во фронтовом госпитале СС. Почему патефон? Ах, да! Знаете, как случается, — поставишь новехонькую пластинку, игла скользит себе и скользит, будто по маслу, и ты, размягченный мелодией, прикидываешь уже, кого из дам пригласить на танго, как вдруг кончик иглы срывается с бороздки — вжж-ж-ж — и вместо танго дикая какофония и всеобщий хаос. А кто виноват? Какая-нибудь царапинка, закорючечка, пустячок величиной с инфузорию, возникший на пути у стали и вызвавший катастрофу.
Так что же, катастрофа? Я закрываю глаза и принимаюсь перебирать в памяти детали разговора с советником. За что он мог зацепиться? Готовясь к встрече с Цоллером, я мысленно вычертил схему, оставив, разумеется, местечко и для импровизации. Не она ли подвела меня? Самое слабое место — “откровения” Фогеля. Цоллер, приложив к доносу Лемана логическую мерку, способен усомниться в том, что бывший штурмфюрер стал бы изливать Францу душу, и задать себе вопрос: а зачем? Зачем, спрашивается, надо Фогелю звонить во все колокола о делишках, ввергших его в беду?
Черный цвет окна плотен и непроницаем. Столь же черным и непроницаемым представляется мне ближайшее будущее. Я пытаюсь продраться сквозь мрак, проломить его и достичь освещенного солнцем оазиса, но тьма безгранична. Нет, чепуха все это: лежать и гадать. Ромашки только не хватает: любит — не любит. Оазиса с ромашками и Цоллера, преподносящего на подносе позолоченные ключи от светлого будущего… Проще, Леман!
Мозг мой, напичканный образами, устает от них, и я заставляю себя отключиться; вспоминаю давний вечер и девушку, которой назначил свидание под часами. Так уж случилось, что я не сумел прийти, и она, наверное, очень сердилась, стоя в круге, очерченном вечерним фонарем, — милая такая девушка с голубыми глазами и в туфлях-лодочках… Понимаете, она очень понравилась мне; и телефон ее я помню и имя. Вот приеду назад и позвоню…
Вместе с холодом из-под двери просачиваются звуки. Звонки телефона, шаги; кто-то кашляет; хлопает входная дверь. Нервы, натянутые ожиданием, откликаются на них тихим воем. Левая рука начинает привычно ныть, и я, прикусив губу, потираю шрамы на месте оттяпанных хирургом пальцев.
Сколько же можно ждать? Цоллер явно мудрит; или же я переоценил его и в могучем теле советника ютится душа труса? Вполне возможно, что он, взвесив то да се, решил, что карьера, конечно, весьма приятная штука, но возможность спать без тревог в собственной постели — вещь еще более приятная. В таком случае он постарается отделаться от Лемана и сейчас прикидывает, как бы половчее заткнуть ему глотку.
Я, словно маг, вызываю дух Цоллера и, мысленно материализовав его, ставлю в центре комнаты под яркий свет лампы. Кожа, как одежда, спадает с него, обнажая не мышцы и артерии с венами, а нечто не имеющее названия и условно означенное теософами термином “божественная душа”. Что же она такое есть — душа старого служаки, не поднявшегося при всех своих способностях выше советника в районном отделе гестапо? Кто передо мной — Тартюф или Яго?.. Однозначного ответа нет, но, вспомнив разом множество мелких штрихов, я склоняюсь к мысли, что Цоллер вцепится-таки в дело Варбурга и, взяв меня за ручку, приведет к бригаденфюреру. Кто бы он ни был — карьерист или тряпка, но прежде всего он был и останется гестаповцем. Похоронить донос не просто глупость, а преступление, и на это Цоллер не пойдет. Он тоже хочет жить — шляться по Унтер-ден-Линден, дышать и, может быть, любоваться звездами. В сороковом, при иной обстановке, когда Германия славословила тем, кто стоял наверху, советник Цоллер счел бы рассказ Лемана клеветой и упрятал бы Франца в концлагерь. Но на дворе — сорок пятый. Бомбежки и война у самых границ отрезвили немцев, одновременно обрушив на империю девятый вал шпиономании. После 20 июля 1944-го сам Гитлер не верит никому и ничему. На этом фоне измена Варбурга выглядит не постулатом, требующим математических доказательств, а явлением, укладывающимся в рамки житейского опыта. Крысы бегут с корабля…
Крысы, крысы… Миллионы крыс…
— Ну и соня же ты, сынок.
Живой Цоллер — отнюдь не дух, материализованный мною! — стоит возле скамьи. Черная шинель небрежно наброшена на плечи, толстые губы распущены в полуулыбке. Дремота еще колышется у меня перед глазами, радужными кругами повисает на кончиках ресниц, а сознание работает, приказывая телу встать.
— Сиди, сынок, — дружелюбно говорит Цоллер и примащивается у меня в ногах. — Не стоит подниматься наверх, здесь и светлее и тише. Ты любишь, когда светло, или нет?
— Люблю, — говорю я совершенно искренне.
— Это хорошо. Правда, ты чем-то мне нравишься, сынок. У тебя крепкие нервы и честное лицо. Такое лицо должно быть у настоящего немца, преданного родине и фюреру. Вот только твой акцент…
Слова, легковесные и мягкие, обволакивающие сознание; они ровно ничего не значат, и Цоллер выбрасывает их, словно выплетает кружевную завесу, за которой хочет скрыть сталь меча. Сейчас мне нужно быть особенно настороже, ибо меч готов подняться и пасть — прямо на голову, на хрупкий череп Франца Лемана.
— Это хорошо, — повторяет Цоллер. — Здесь мало кто спит; разве что те, у кого совесть чиста. А где найти таких? Понимаешь, мне больше приходится иметь дело с дерьмом, всю жизнь с ним вожусь и, знаешь ли, мечтаю напасть на ангела. Ты не ангел?
— Господин советник шутит?
— Нисколько. Просто, если хочешь, удивляюсь. И гадаю: или ты прохвост, каких мало, или безгрешен, как херувим.
Знакомая мне лавина собирается на лбу советника. Незажженная сигара хрустит у него в пальцах, и на полы черной шинели сыплются крошки. Уже не струйка, а полярная буря врывается в щель под дверью, холодя кожу.
— Что это ты? — мягко говорит Цоллер. — А ты, оказывается, трусишка, а?
Согнутым указательным пальцем он цепляет меня под подбородок и поворачивает лицо к себе.
— Ай-ай-ай… Теперь ты мне совсем не нравишься, сынок. Выше голову! Ничего не будет, просто я спрошу тебя, а ты ответишь. Прямо и без уверток, как положено бойцу СС. Ну! Говорить быстро: что ты знаешь о Фогеле и Лизелотте Больц? Где они, по-твоему?
— Понятия не имею…
— Возможно… Возможно, что так… Ну-с, а как ты станешь жить дальше, сынок, если я сообщу тебе, что Фогель и шарфюрер Больц пропали без вести? Понимаешь: свидетелей нет, и от тебя зависит, повторить свою басенку или, собрав мужество, признаться, что ты все выдумал и очень раскаиваешься.
Мне не стоит ни малейших трудов изобразить изумление. Что Фогель должен был исчезнуть — это закономерно, но отсутствие Микки — настоящий сюрприз. Выходит, Варбург оказался достаточно дальновидным, чтобы не полагаться на нежные чувства и убрать свидетельницу.
— Мне не в чем раскаиваться, — говорю я и мотаю головой. — Господину советнику вольно сомневаться, но я знаю свой долг и не отступлю.
Огромное тело Цоллера колышется: смех, неровное бульканье, вырывается из него, заставляя меня вскинуть брови в полном недоумении.