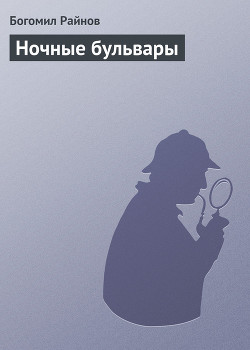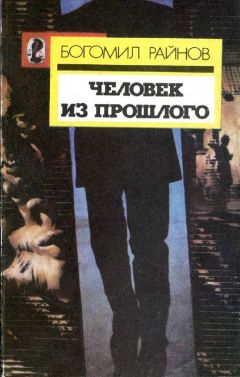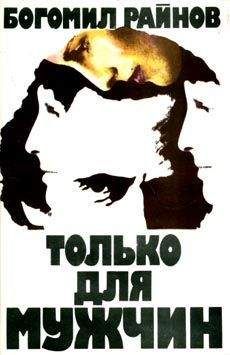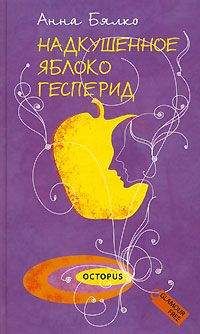Он держит меня в углу по четыре часа, по шесть, по восемь часов, в зависимости от того, как оценивает мой проступок. Потом, поглядев на часы, приказывает:
— Ладно, иди учи уроки!
— Я есть хочу, — бормочу я, садясь за стол.
— Есть будешь завтра утром! Иди учи уроки! Ставить меня в угол был его любимый номер. Но у него было достаточно богатое воображение, чтобы разнообразить свои экзекуции. Способы наказаний ему подсказывали сами мои проступки. Когда однажды я пролил чернила на паркет, он заставил меня вылизать их языком.
— Отравится ребёнок, — позволила себе сказать моя мать.
— Не отравится, а станет аккуратнее, — возразил отец.
Я действительно не отравился. Меня только долго рвало в ванной, мои внутренности выворачивались от отвращения, и я не мог избавиться от металлически-сладкого вкуса во рту.
В другой раз, когда я прошёлся в грязных ботинках по дорожке из мраморных плиток в саду, он заставил меня вымыть все плитки водой и щёткой. Зубной щёткой, конечно, — иначе было бы слишком просто. Мытьё продолжалось с обеда почти до вечера, ползая по плиткам, я стёр все колени, а отец приходил каждые четверть часа, чтобы проинспектировать мою деятельность и предупредить:
— Смотри: оставишь пятнышко, будешь вылизывать языком!
А однажды он наказал меня особенно изощрённо.
Не успел я, вернувшись из школы, снять плащ, как отец заметил, что на нём нет пуговиц, он всегда замечал такие вещи. Сначала оторвалась одна, потом другая, а я не обратил на это внимания.
— Почему у тебя нет пуговиц?
— Оторвались…
— Где же они?
— Не знаю. Потерялись…
— Пойди сюда!
Он отвёл меня в их спальню, достал из гардероба старый плащ и мешочек, куда складывали ненужные пуговицы.
— Возьми иголку, катушку с нитками и все их пришей!
— Куда?
— На плащ. Везде, где есть место.
И я начал пришивать, преодолевая голод и усталость.
Когда я, наконец, кончил, была уже ночь, поскольку основной секрет отцовских наказаний состоял в их продолжительности. Весь плащ был обшит пуговицами, каждый его квадратный сантиметр — большими и маленькими, стеклянными, пластмассовыми, костяными, перламутровыми, от рубашек, от пальто, от платьев. Получилось и впрямь странное одеяние, было бы интересно сохранить его как свидетельство изобретательности отца. Но, увидев результат моих стараний и молчаливо одобрив их, отец приказал:
— А теперь возьми ножницы и спори их!
Трудно перечислить все его выдумки подобного рода, да и ни к чему. Но одно из самых неприятных наказаний, при воспоминании о котором я и сейчас чувствую сильную боль в правой руке, — было писать. За любой провинностью, допущенной мною в школе, следовало приказание:
— Напишешь ясно, чётко, красивым почерком: «Когда я прихожу в школу, не приготовив уроки, я позорю себя и своих родителей. Мои родители делают всё, чтобы я стал человеком, и не заслуживают того, чтобы их позорили. Обещаю, что никогда больше не приду в школу, не приготовив уроки». Понял?
— Я не уверен, что всё точно запомнил…
— Сядь там! Я тебе продиктую. А потом ты перепишешь сто раз.
Сто раз, потому что текст сравнительно длинный. Был бы короче, переписывал бы двести раз. В общем — с обеда до поздней ночи, при этом мне не разрешалось есть и даже пить воду.
Обычно в конце концов он заставал меня после полуночи заснувшим за столом и всё ещё не переписавшим текст столько раз, сколько он того требовал. Тогда он двумя пальцами брезгливо приподнимал меня за воротничок, словно ему было противно прикасаться ко мне, и приказывал:
— Иди спать! А завтра допишешь, что не дописал.
Однажды вечером, когда я был занят усердным переписыванием очередного текста в своей комнате, а дверь в гостиную была приоткрыта, я случайно услышал разговор между матерью и отцом.
— По-моему, ты перебарщиваешь, когда наказываешь его так надолго, — говорила вполголоса мать.
— Надо, чтобы наказание было длительным, чтобы у него было время осознать свою вину, — спокойно возразил ей отец.
— Не знаю, способен ли он вообще что-то осознать, — вздохнула она. — Мне кажется, он такой тупой…
Я почувствовал, как меня охватывает бешеная злоба. И не столько против отца, который не был мне отцом, сколько против родной матери, которая считала меня тупым после того, как хладнокровно позволяла превращать меня в слабоумного. Мне с трудом удалось подавить в себе эту злобу. И может быть, именно потому, что мне удалось себя побороть, своим детским умом я неожиданно сделал открытие. Я раздражал этого человека, раздражал прежде всего самим своим существованием, но также и этим внутренним сопротивлением, этим скрытым упорством, которое нетрудно было почувствовать.
Через несколько дней я воспользовался своим открытием. Не помню, какую мелкую провинность я совершил, но отцу она явно не показалась мелкой, поскольку он присудил мне самое тяжёлое наказание — шкаф. И тогда я начал умолять его о прощении. И не просто умолял, но встал на колени, целовал его руки, и хотя он отнимал их, я продолжал хватать их и целовать, и поливать слезами, правда, плакал я от злобы и унижения, однако этого он знать не мог и, приняв мои слёзы за слёзы раскаяния, в конце концов смягчился и пробормотал:
— Иди в комнату, учи уроки…
* * *
Квартира советника мало чем отличается от моей, разве что обилием меди. И гостиная, и обе комнаты были уставлены самыми разными и совершенно ненужными старинными изделиями из меди: котлы большие, средние, маленькие, тарелки, подносы, колокольцы для овец и Бог весть что ещё — всё старательно начищено, чтобы блестело и производило эффект. Эффект производит, но всё-таки напоминает лавку старьёвщика.
Приём, разумеется, организован не в нашу честь, но всё же я ожидал, что к нам как к вновь, прибывшим проявят больше внимания, и это убедит мою жену в том, что именно мы виновники торжества. Ничего подобного. Пятидесятилетний верблюд, который открывает нам дверь, то есть хозяйка дома, бубнит равнодушно «как поживаете?», словно мы видимся каждый день, растягивает большой рот в притворной улыбке и вводит нас в квартиру, где нашего появления даже не замечают.
Хозяйка, как положено, водит нас от одного гостя к другому, представляя нас, и каждый из присутствующих одаряет нас дежурной улыбкой, но тут же благополучно забывает о нас и продолжает заниматься тем, чем занимался до этого. Занятий, как всегда в подобных случаях, хоть цифрами напиши, хоть прописью, три: карты, танцы, и питьё.
Игроков, сидящих в одной из комнат за столом, покрытым зелёным сукном, четверо: господин и госпожа Адамс, советник и мой хмурый помощник Бенет, который в данный момент, похоже, проигрывает, поскольку вид у него более хмурый, чем утром. При нашем появлении они даже не прерывают игру, и только Бенет, видно, из желания угодить начальству, соблаговолил всё же встать на секунду и поцеловать руку Элен.
В другой комнате, где стоит магнитофон, двое молодых мужчин танцуют со своими молодыми жёнами. Лица мужчин мне немного знакомы. Это, как я понимаю, помощник торгового представителя и радист посольства. Они тоже, слегка повернувшись к нам, обнажают зубы в улыбке и продолжают кривляться, всё так же машинально уставившись безразличным взглядом в пространство, чуть приподняв руки и покачивая нижней частью туловища.
На диване в углу устроилась ещё одна пара, явно поглощённая третьим занятием — выпивкой. Это моя секретарша в компании Франка, если не ошибаюсь, помощника Адамса, который занимается вопросами печати. И Франк, и моя нахальная секретарша тоже не обращают на нас внимания, если не считать того же подобия улыбки.
Итак, после этого обхода мы усажены верблюдом в бархатные кресла. Верблюд, то есть хозяйка, суёт нам в руки по стаканчику и садится рядом, примирившись с необходимостью нести на своей спине тяжкий крест гостеприимства. К счастью, спина у неё крепкая. Вообще природа щедро одарила её широкой костью, высоким ростом, большими зубами, ногами самого большого размера и рядом других преимуществ, которые, как правило, считаются привилегией не слабого, а сильного пола. Может быть, чтобы придать себе хоть толику не достающей от рождения женственности, она разукрасила себя с помощью всех возможных косметических средств, начиная с кроваво-красного лака на ногтях и фиолетовой помады на губах и кончая зелёными тенями вокруг, глаз, зловеще контрастирующими с белым от пудры лицом. Всё это делает её внешность если не очаровательной, то, безусловно, незабываемой.