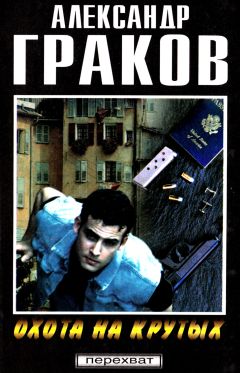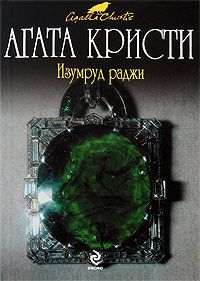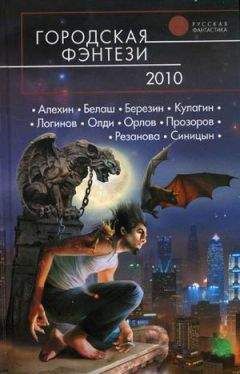— На, теть Зин, свой «ящик», — Иван громыхнул на край стола черно-белого изображения телевизор огромных размеров. — Починил я его три дня назад, но времени не было зайти сказать тебе. Понимаешь — то работа, то...
— Понимаю, понимаю, Ванечка! — запела бабка Зина, кося хитрым глазом на уставленный закусками стол, одновременно ухитряясь при этом разглядывать Олесю. Михая за столом она как бы не брала во внимание. — Это где ж ты, Ванюш, откопал такую красавицу, а? На что твоя Инка и рожей, и задницей удалась, а эта, пожалуй, переплюнет ее! — вынесла она свой приговор и замолчала выжидающе.
— Теть Зин, еще один такой вопрос, и коробку эту, — Иван ткнул пальцем в телевизор, — через два этажа попрешь сама. Это гости ко мне приехали, муж с женой. Из Венгрии! — хвастанул он.
— Ух ты ж! — искренне изумилась баба. — Это ж надо! Счас вон все умные люди тикают из Советов, а эти сами приперли в катавасию.
— Теть Зин, тебе помочь? Или мы уходим! — многообещающе вопросил Иван.
— Помочь, помочь, Ванюша! — засуетилась бабка, откуда-то из-под полы выхватила литровую банку с чистейшей жидкостью.
— А это за труды твои. Можа, и самовар сремонтируешь?
— Гдe ж ты, бабуля, утром была со своей зарплатой? — посетовал Иван. — А самовар тащи, сремонтируем. Хотя нет, денька два-три потерпи, пока у меня кое-что прояснится, — вопросительно глянул на Михая. Тот утвердительно кивнул.
Иван не мешкая ухватил громадный «ящик» и поволок его к выходу вслед за бабкой. Хлопнула входная дверь, и Михай с Олесей остались одни. Она первой нарушила наступившую тишину, с подозрением глядя на него:
— Это ты... что там насчет любви говорил Ивану?
— Ах, это? — беспечно махнул рукой Михай. — Это я так, чтобы он не приставал. Ты бы видела, как заискрились его глаза при виде тебя — по короткому замыканию в каждом.
— Так ты... так ты!.. — от возмущения Олеся аж задохнулась, не находя слов. Наконец-то прорвало. — Болван бесчувственный, бревно, крокодил толстокожий! Хоть бы соврал что-нибудь про любовь, наплел какие-нибудь сказочки! Мы ведь, бабы, на лесть падкие. Так бы до Москвы добралась в неведении. А то получил свое и успокоился. Как же — считай сама в постель залезла к нему, как какая-то последняя... — не договорив, она зарыдала горько, взахлеб, размазывая по щекам краску. Михай бросился утешать ее.
— Ну что ты, как девочка маленькая, сразу: любишь — не любишь, плюнешь — поцелуешь... Я же тебе всего два слова ничего не значащих сказал — а ты в слезы. Пойми — мне уже не пятнадцать-семнадцать лет, когда иной вьюнош, выпросив у девочки поцелуй, клянется ей в любви и верности до гробовой доски. Я видел — тебе было очень одиноко и тяжело прошлой ночью. И я утешил и скрасил твое одиночество, как смог. И не нужно мерить это сразу любовной меркой. Одно то, что я потянул тебя за собой, уже доказывает, что ты мне не безразлична. Но любовь... Нет, такими словами не разбрасываются. Одно дело сказать это в шутку, в кругу друзей или знакомых, и совсем иное — любимой женщине. Тем более — была у меня любовь. И раз уж зашел этот разговор о любви, давай доведем его до конца. После того случая я женился в жизни два раза. И оба раза развелся, прожив супружеской жизнью лишь несколько лет. Почему? Да потому что везде: во сне ли, наяву — передо мной стояла она — моя первая любовь.
— Расскажи мне про нее, — тихо попросила Олеся.
— Хочешь стихотворением? Я никогда, до ее смерти, не написал ни строчки, даже не подозревал, что смогу написать. Но это вылилось само по себе, из души. И запомнилось, наверное, на всю жизнь.
— Прочти!
Откройте, мне здесь так душно,
Ну что я, как в клетке зверь!
Но пялится равнодушно
Железом шитая дверь.
На голову — одеяло,
Забыться, уснуть, но нет—
Стучится в виски усталость,
И в сон наплывает бред:
Упали решетки с окон,
Под шинами — вновь проспект,
Единства моторов рокот —
В неполных семнадцать лет.
Мы — рокеры, дети ночи,
Мы соням — как в горле кость.
И фарами режем в клочья
Чернильную тьму, как плоть.
... Под шлемом — косая челка,
Глаза — бирюзовый цвет.
Сидит за спиной Аленка —
Девчонки милее нет.
— Люблю! — свищет ветер в уши,
Летит под колеса твердь
И мой мотоцикл послушен,
Будто прирученный зверь.
И дальний есть свет, и ближний,
Но так уж не повезло:
На каждую радость в жизни
Дается в запас и зло.
Вдруг — сбоку мелькнул протектор.
Удар! Темнота... И ночь
Уносит меня в карете
Куда-то от жизни прочь.
Но выплыл. В подушке смятой
Из марли — лишь только нос.
Я в гипсе лежу распятый,
Как сам Иисус Христос!
Вот в тишине каленой
Врачей, заслонивших свет,
Глазами спросил: «Алена?!»
И был тишиной ответ.
В бреду замелькала челка,
И глаз бирюзовый цвет.
Ушла в никуда девчонка
В неполных семнадцать лет.
И суд был... Да что мне судьи!
Я сам — судья и палач...
А ночью все время будит
Теперь уж ненужный плач.
Но всех приговоров строже
Зрачков материнских боль.
И крикнуть хочу: «О Боже!»
Живу... а по сути — ноль.
И будто бы меч дамоклов,
Нависла ниточка слов.
Я слышу в ночи:«Будь проклят!
И ты, и твоя любовь!»
— Вот такая была любовь! — помолчав, сказал Михай. — Давно и недавно!
— А как же все-таки будет у нас? — спросила, придвигаясь ближе к нему, Олеся.
— Знаешь, не хочу тебя и себя обнадеживать, чтобы потом не ранить еще больнее, — признался ей Михай. — Ведь жизнь моя нынешняя, как в цыганском таборе — все время на колесах. И в ней пока не запланировано место для женщины. Я имею в виду постоянную, до конца. И потом, что ты знаешь обо мне? Вполне возможно, что узнав прошлое и одну из сторон моего настоящего, ты возненавидишь меня. И получится у нас, как в том стихотворении.
Бардак разобранной постели,
Ночник вагонного купе,
В борьбе сплетенные две тени,
Ты мне чужая, я — тебе.
... Чуть сдвинув жадные колени,
Поправив смятое пальто,
Шепнула с деланным смущеньем:
—Ну победил, а дальше — что?
А что ответить? Сам не знаю.
Ведь в том вагоне, ты прости,
Сошлись две жизни — как трамваи
На разветвлении пути.
Сойдутся стрелки, разойдутся,
И дальше — каждому свой тракт.
Друг другу люди улыбнутся
Через окошко — просто так.
Вот так и наша — мимолетом,
Горящей спичкою любовь.
Тебя — на станции ждет кто-то.
Мне — пересадка на Ростов.
Что до меня — отбрось сомнения,
Другого на перроне встреть,
Чтобы потом, во искупленье,
В аду смятенья не гореть!
— Ну спасибо ! Ну удружил! — ноздри Олеси гневно раздувались, лицо побелело от негодования. — Ты что же, не понял, что сравнил меня сейчас с обыкновенной вагонной шлюхой? Меня, у которой пол-Москвы в ногах перевалялось, вымаливая разрешения послать букет роз за тридцать долларов. «Горящей спичкою любовь!» — передразнила она Михая, срываясь с места и запихивая в свой огромный чемодан разную мелочь. — Все вы, кобели нехолощеные, красиво поете, пока не трахнетесь с предметом обожания. А потом он сразу становится для вас БУ, предметом, бывшим в употреблении. И тотчас же обожание переносится на другой объект, стоящий внимания. Можно знать много стихотворений, красивых слов о любви, чести и достоинстве, но если здесь, — она прижала руки к груди, — вместо сердца трамвайный рельс, от таких людей надо держаться подальше! Ну и ладно, будем считать, что вчерашним трахом я рассчиталась-таки с тобой за спасение моей жизни. Адью, трезвомыслящий человек! До Москвы я знаю дорогу! Деньги имеются, — и, уже взявшись за ручку двери, дрожащим от ярости и слез голосом добавила: —- И не вздумай бежать за мной — я на лестнице начну все на себе рвать и кричать «помогите, насилуют». Ух, до чего же я тебя ненавижу!