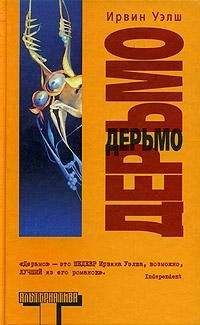Но, наверное, в связи с отсутствием спартанского воспитания перспектива погибнуть красиво и с достоинством меня не вдохновляла. Ничего, кроме животного страха, я, сознаюсь, в тот момент не испытывал и поэтому ничем иным, как животным инстинктивным порывом, свои дальнейшие действия объяснить не могу. Собственно, я даже не очень хорошо помню, что произошло. Кажется, у меня вырвался какой-то горловой звериный рык, одновременно с этим я выскочил из своего последнего укрытия и руками, ногами, всем туловищем ударил по железному листу, по укрывающимся за ним убийцам.
Каким-то чудом мне при этом удалось удержаться на ногах. Чего не скажешь о них. Противник был в буквальном смысле отброшен, и судя по стонам и матерным крикам, последовавшим за моей контратакой, понес не только физический, но и значительный моральный урон. Я же стоял на вершине, дрожа от пережитого напряжения и все глубже осознавая, что второй раунд наверняка будет уже не в мою пользу. Эти спортивные пареньки не привыкли к поражениям, они просто так не сдадутся, очень скоро следует ждать продолжения. Поэтому у меня есть совсем немного времени, чтобы придумать, как отсюда выбраться.
Тихо, едва не на цыпочках, я перебрался ко входу в левую квартиру. Здесь было немного светлее, в оконных проемах без стекол и рам багровел гаснущий день. Перегнувшись через подоконник, я глянул вниз: высокий четвертый этаж, щебень и поблескивающее в закатных лучах битое стекло — не лучшая площадка для приземления. Высунувшись еще глубже, я оглядел стены в поисках водосточных труб, но таковых не обнаружил. Снова тупик. Нет выхода.
Надо было скорей возвращаться туда, где я хоть как-то, хоть из последних сил, но мог еще держаться. Обреченно я тронулся в обратный путь, и тут в коридоре мой взгляд упал на небольшое темное помещение, в глубине которого что-то тускло отсвечивало. Шагнув туда, я догадался, что это бывшая ванная, а блестят в углу свежепроложенные водопроводные трубы. Безумная надежда заставила еще более учащенно биться мое сердце: присев на корточки, я ощупал пол руками и определил, что, как я и надеялся, на месте прокладки труб в нем проломлена дыра. Теперь оставалось опытным путем определить, пролезет ли в нее человек. Не вообще человек и не какой-нибудь там Гудино Гудини, а конкретно я.
Для начала, стащив с себя куртку, я швырнул ее вниз, после чего, мысленно перекрестившись, ухватился за трубу и принялся сползать по ней ногами вперед. Это было очень тяжкое испытание, которое я и сейчас не могу вспоминать без сосущего чувства под ложечкой. Особенно тот момент, когда бедра уже прошли в дырку и вдруг застряли руки с плечами. Но мысль, что эти подонки застанут меня в такой унизительной и беспомощной позиции, придала мне невиданных сил. Не знаю как, но, изорвав на себе всю одежду, оставив на острых краях перекрытия лохмотья кожи, я все-таки протиснулся. Правда, чуть не рухнув по инерции на пол.
Там тоже имелась дырка, ведущая дальше вниз, но организм отказывался воспринимать даже саму мысль о повторении подобного испытания, и я решил на сей раз пойти ему навстречу. Выглянув осторожно из квартиры на площадку третьего этажа, я никого там не обнаружил: все ушли на фронт, голоса раздавались теперь уже сверху. Окрыленный удачей я скатился вниз по лестнице и у выхода из подъезда лицом к лицу столкнулся с Бурым Пиджаком.
Он стоял и, задрав голову, прислушивался к звукам ведущихся наверху боевых действий. Наверное, пока меня должны были убивать, его оставили здесь на шухере, и вид живого и почти невредимого приговоренного к смерти, в одиночестве покидающего место казни, произвел на него сильное впечатление: у него отвисла челюсть и слегка остекленели глаза. Но он быстро справился с собой и выхватил из кармана нож — тот самый. После чего сделал им выпад в мою сторону.
— Это ты зря, — сказал я, перехватывая ему руку и заводя ее на прием. — Этому-то меня хорошо научили.
Нож выпал, но парень, завыв от резкой боли, попытался все-таки вырваться, крутясь и норовя пхнуть меня ногой в пах. Из чего я сделал вывод, что его-то, похоже, никто никогда ничему не учил, и со злорадным удовлетворением уперся покрепче и дернул так, что хрустнуло. Он обмяк от боли и сполз на землю. Надеюсь, я сломал ему руку сразу в паре-тройке мест и ближайшие несколько месяцев у него больше не будет возможности работать по специальности.
Подобрав нож, я покинул стройплощадку и оказался на улице. Здесь как будто ничего не изменилось: все так же летели по проспекту автомобили, плелись по тротуару натрудившиеся за день прохожие, к остановке подкатывал очередной троллейбус. Но мне в первую очередь был интересен иной объект — бутылочно-зеленая BMW. Я подскочил к ней и с пугающим меня самого сладострастием вонзил финку сначала в переднее, а потом в заднее колесо. На большее времени не оставалось: троллейбус уже отваливал от тротуара, я еле-еле успел вскочить на подножку.
Наверное, мой вид был для нормальных людей пугающ — я ловил на себе подозрительные взгляды пассажиров, а одна пожилая тетка с сумками даже пересела от меня подальше. Однако мне было наплевать. Я все-таки оторвался от «хвоста».
Еще трясущийся, грязный, ободранный, местами даже практически освежеванный, но главное — живой. Живой!
Понадобилось совсем немного времени, что-то около полутора троллейбусных остановок, чтобы я, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, вынужден был внести существенную поправку: пока живой.
« — ...ты у меня тоже всплывешь уже на следующий день. Кверху брюхом в Москве-реке...»
Благодаря чувствительному микрофону казалось, что отодвигаемое кресло скрипит, словно несмазанное тележное колесо — это Бобс встал, намекая посетителю, что тот у него загостился. В следующее мгновение мне показалось, будто по полу тащат волоком трехстворчатый шкаф, и с некоторым опозданием пришла догадка: Господи, неужто это я с таким грохотом встаю со стула?
Дважды щелкнув, как пистолетный затвор, дверь в кабинет открылась и закрылась, после чего наступила тишина. В этой тишине раздались звуки, которые я тоже сперва не смог идентифицировать: как если бы огромная ладонь мерно похлопывала по необъятной лысине. Хлопки приближались, нарастали, и я вдруг с замиранием сердца понял, что это шаги. Блумов шел по направлению к мусорной корзине!
Сейчас он наклонится, протянет руку и грубо выхватит оттуда пачку «Бенсон энд Хеджес»... В предчувствии душераздирающего треска я уже готов был сорвать наушники, но шаги замерли, жалобно пискнула половица, и они так же мерно начали удаляться. Бобс в задумчивости расхаживал по паркету.
Снова заскрипело — он сел обратно в кресло. Зашебуршал селектор, и кокетливый женский голос откликнулся:
— Слушаю, Борис Федорович!
Блумов коротко протявкал:
— Нина, Геннадий появился наконец?
— Да, он у себя.
— Попросите его ко мне зайти.
Шаги у явившегося на зов уже через пару минут Геннадия были тяжелее, чем у хозяина, а голос глухой и гулкий, как из бочки:
— Вызывали, Борис Федорович?
— Вызывал, — с неприятной многообещающей интонацией откликнулся Бобс, но неожиданно для меня в их рутинно начавшемся диалоге начальника и подчиненного это оказались едва ли не последние человеческие слова. Потому что дальше Блумов зловеще поинтересовался: — Что, Лешак, большая гава?
Я услышал сперва, как тяжко засопел пришедший, потом он натужно выдавил из себя:
— Да, сверзили. Абодье не в кость. Сперва-то по кайфу, а потом баддоха в зырки, да еще этот оперсос накашпырил...
— Балдоха, значит? — еще более зловеще перебил его Бобс. — Мне на баддоху класть с прибором, я галье мечу! Твой гумозник вместо бондаря двух пупкарей завалил, дудоргу кинул и рога заломил! А оперсос теперь шнырит вокруг, уже зенки запалил, вот-вот жухнется.
— Ну, лакша, ну, с кем не бывает! — в голосе Лешака появились почти плачущие нотки. — За него Зубарик мазу держит!
— Маза твоя. Ты мне набил про гейт на говре, твой ответ. Каляка больше нет, загаси его, — жестко распорядился Бобс, и я услышал, как скрипит, словно подводит итог, кресло, из которого он встает, собираясь намекнуть, что время истекло. Но Лешак буквально взмолился:
— Папа, дай вант, вырулим! Кентуха сам гурится, зарубку кладет — все будет гбуро. Он битый, канает на масть, сукой быть!
Я услышал странный звук — будто голубь топчется на жестяном подоконнике, и не сразу догадался, что это Блумов стучит ногтями по полированному столу. Видимо, папа задумался. Потом спросил:
— Каленый?
— Красненькая за руль сорок шесть, чалился у комиков, — с готовностью отрапортовал Лешак. — Он сейчас на лимоне, куклимит, дышит тихо. А ко мне у него зябок. Так что блат в доску.
— Погоняла? — поинтересовался Бобс. Похоже, он менял гнев на милость.
— Мойва.
— Окрас?
— Один на льдине, ломом подпоясанный.