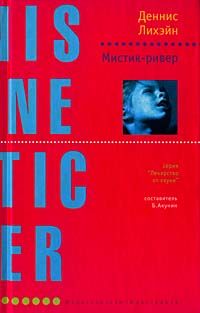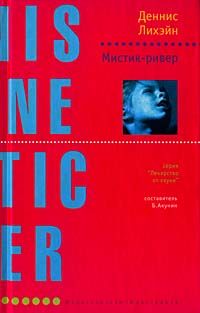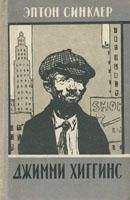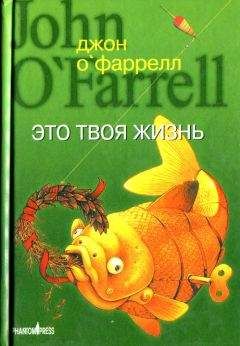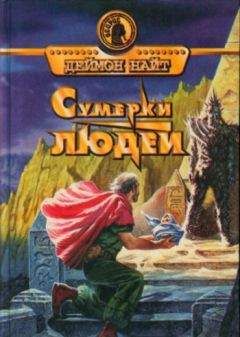Может быть, это и есть то, что в медицине называют депрессией — полное отупение, усталая безнадежность.
Кейти Маркус мертва, да, это так. И это трагедия. Умом он это понимал, но не мог почувствовать сердцем. Еще один труп, еще одна погасшая искра жизни.
Ну а его брак, что это такое, как не осколки разбитого вдребезги стекла? Видит Бог, как он любил ее при всей их абсолютной противоположности как человеческих особей. Лорен увлекалась театром, книгами, фильмами, а Шон порою даже не помнил, с субтитрами фильм или нет. Она была пылкой, разговорчивой, любила нанизывать слова, строить из них головокружительные башни, чтобы потом карабкаться вверх, к смыслу и сути, оставляя Шона где-нибудь на третьем этаже.
Впервые он увидел ее в школьном спектакле, в какой-то детской комедии, где она играла брошенную девушку, а никто в публике и на минуту вообразить себе не мог, что такую девушку, так и пышущую энергией, любопытством, вкусом к жизни во всей ее полноте, можно бросить. Даже и тогда они были странной парой: Шон — тихий, практичный и сдержанный со всеми, кроме нее, и Лорен — единственный ребенок стареющих хиппи, интеллектуалов либерального толка, работавших в Корпусе мира, а потому таскавших ее по всему свету и воспитавших в ней потребность видеть, и трогать, и искать в людях лучшее.
Мир театра был ее стихией. Она естественно чувствовала себя в нем вначале как актриса-любительница, потом как администратор местных театральных трупп, а иногда и как продюсер больших гастрольных проектов. Но брак их выдохся не из-за частых ее гастролей. По правде говоря, Шон не очень-то понимал, почему выдохся их брак, хотя и подозревал, что причина заключается в нем, в его молчаливости, в постепенно укоренившемся в нем и таком характерном для полицейского презрении к людям, в полнейшей невозможности для него поверить в высокие идеалы или альтруистические побуждения.
Ее друзья, когда-то так занимавшие его, стали казаться ему наивными детьми, погрязшими в далеких от жизни художественных теориях и абстрактном философствовании. Шон проводил вечера в суровой простоте реальных драм, где люди насиловали, крали и убивали из одного только неодолимого стремления так делать, а на уик-энд попадал на какую-нибудь идиотскую вечеринку с коктейлями, где девушки с прической «конский хвост» (включая и собственную его жену) рассуждали и спорили о мотивации греха. А мотивация простая. Люди глупы, как шимпанзе. Нет, они хуже, чем шимпанзе, — те не убивают друг друга из-за денег или фальшивых чеков.
Она говорила ему, что с ним стало трудно, невыносимо, что у него замшелые взгляды. Шон не возражал — что тут возразишь? Вопрос не в том, действительно ли он таков, каким представляет его жена, а в том, в лучшую или худшую сторону он изменился.
И все же они продолжали любить друг друга и, каждый по-своему, делали попытки: Шон — выбраться из своей шкуры, она же — в его шкуру влезть. В чем бы ни заключалась эта связующая пару химическая потребность друг в друге, у них с Лорен это было. Было всегда. И все же он, видимо, должен был догадаться о начинавшемся романе. Может быть, он и догадался о нем, но взволновал его главным образом не сам роман, а последовавшая затем беременность.
Черт. Он опустился на кухонный пол, один, без жены, в пустой кухне, и, уперев в лоб запястья, принялся в который раз за последний год думать о том, что привело к краху его женитьбу. Но ничего придумать он так и не мог, а представлялась ему теперь эта женитьба лишь осколками стекла, стеклянным крошевом, заполонившим его сознание.
Когда зазвонил телефон, он, сам не понимая почему, еще до того, как снял трубку и, прижав ее к уху, сказал: «слушаю», уже знал, что это она.
— Это Шон.
На другом конце провода слышалось приглушенное гудение мотора тяжелого трейлера с прицепом на холостом ходу и шуршание шин проносящихся по автостраде автомобилей. Он так и представил себе эту картину: остановка на автостраде, бензозаправка, ряд телефонов-автоматов между магазинчиком и «Макдональдсом». И Лорен стоит там, слушает.
— Лорен, — сказал он, — я знаю, что это ты.
Кто-то прошел там мимо автоматов, позвякивая ключами.
Трейлер с прицепом взревел, тронувшись с места и двинувшись по парковочной площадке.
— Как там она? — спросил Шон. Он чуть было не сказал: «Как моя дочь?» — но все же он не знал, его ли это дочь или же она только дочь Лорен, поэтому он повторил: — Как там она?
Грузовик набрал скорость, гравий заскрипел под колесами, а потом звук стал глуше, когда грузовик с парковки выехал на автостраду.
— Это невыносимо, — сказал Шон. — Неужели ты даже поговорить со мной не можешь?
Он вспомнил, что сказал Уайти Брендану о любви, о том, что у большинства ее и однажды в жизни не бывает, и представил себе жену, смотрящую вслед уходящему грузовику, представил ее с телефонной трубкой у уха, но не возле рта. Она высокая, стройная, и волосы ее цвета вишневого дерева. Смеясь, она прикрывает пальцами рот. В колледже они однажды попали в грозу и бежали по кампусу, и у входа в библиотеку она его впервые поцеловала, и что-то разжалось в груди Шона, когда ее мокрая рука легла на его затылок, разжалось то, что всегда, сколько он себя помнил, давило его, не давало дышать. Она сказала ему, что у него чудесный, лучший в мире голос, что он действует на нее, как виски или как дымок от костра.
С тех пор как она ушла, обычным ритуалом их разговора было то, что говорил лишь он, пока она не решала повесить трубку. Сама она за все время их телефонных разговоров не сказала ни слова с тех пор, как, уйдя от него, она ему звонила — звонила со стоянок и с автобусных станций, из мотелей, из пыльных телефонных будок по обочинам пустынных автострад где-нибудь на техасско-мексиканской границе. И хотя в трубке раздавалось одно только шипение телефонной линии, он всегда знал, что это она. Он чувствовал ее и по телефону. Иногда даже чувствовал ее запах.
Их беседы — если можно было так это назвать — могли длиться минут пятнадцать в зависимости от того, насколько словоохотлив был он. Но сегодня Шон был вообще измучен и истомлен тоской по ней, женщине, исчезнувшей из его жизни на седьмом месяце беременности, неожиданно, в одно прекрасное утро, когда ей невмоготу стало терпеть его чувство к ней — единственное из оставшихся у него чувств.
— Сегодня я не в состоянии, — сказал он. — Я чертовски устал, мне плохо, а ты даже не хочешь дать мне послушать твой голос.
Стоя в кухне, он дал ей последние безнадежные тридцать секунд на ответ. Он слышал звонок колокольчика — кто-то накачивал шину.
— Пока, детка, — сказал он хрипло, давясь мокротой, и повесил трубку.
Минуту он стоял неподвижно, вслушиваясь в эхо насоса, качающего шину, и как этот звук смешивается с мертвой тишиной кухни и колотится в его сердце.
Теперь он будет мучиться, он это знал. Он промучается всю ночь, а может быть, и утро. И может быть, всю неделю. Он испортил заведенный ритуал в разговоре с ней. Он повесил трубку. А что, если она уже открыла рот, чтобы заговорить, произнести его имя?
Господи.
Картина эта преследовала его, когда он шел в душ; если б только убежать от него, от этого видения, — она стоит в будке телефона-автомата и вот-вот заговорит, слова уже зарождаются в ее горле!
Шон, хочет она сказать, я возвращаюсь ДОМОЙ.
В понедельник утром дом наполнился гостями, пришедшими с соболезнованиями, и Селеста находилась в кухне возле своей кузины Аннабет, жарившей и парившей у плиты с отстраненно-яростным выражением, когда в кухню сунулся Джимми — голова его была еще влажной после душа — и спросил, не надо ли помочь.
В детстве две кузины, Селеста и Аннабет, были как родные сестры. Аннабет была единственной девочкой в семье, состоявшей из мужчин, Селеста же — единственным отпрыском родителей, ненавидевших друг друга, поэтому девочки проводили друг с другом много времени, а в старших классах чуть ли не каждый вечер допоздна болтали по телефону. С годами постепенно и незаметно все изменилось: отчуждение между отцом Аннабет и матерью Селесты росло, сердечные отношения сменились холодом и враждебностью. И каким-то образом, без малейшего повода, это отчуждение между братом и сестрой перенеслось и на девочек, и постепенно Селеста и Аннабет стали видеться лишь по семейным праздникам — на свадьбах, когда рождались дети и на последующих крестинах, а также иногда по общим праздникам — на Рождество и на Пасху. Селесту больше всего огорчало отсутствие видимых причин к охлаждению, было больно сознавать, что узы, казавшиеся столь прочными и непоколебимыми, могли так легко ослабнуть и распасться только лишь с течением времени, из-за семейных неурядиц и скачков роста.
Однако со смертью ее матери дела пошли на лад. Как раз не далее чем прошлым летом она с Дейвом и Аннабет с Джимми выезжали на пикник, а зимой они дважды вместе обедали и выпивали. С каждым разом беседа велась все оживленнее, и Селеста чувствовала, как уходят в прошлое десять лет странного охлаждения, и про себя называла причину его: Розмари.