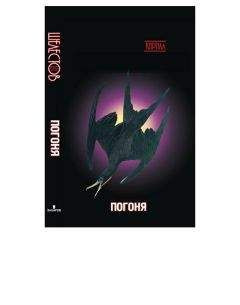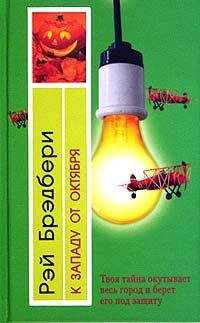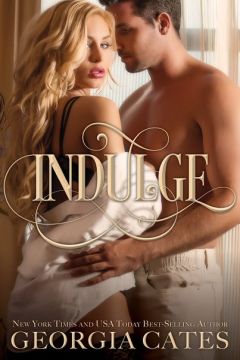Он понял, что неосторожным словом выдал себя.
— При чем тут Гозданкер! — поспешно проговорил он, отводя глаза. — Есть и другие люди. Короче, ты согласен, что тема серьезная? Есть над чем подумать?
— Более чем! — признал я, качая головой.
На свое место я вернулся в смятении, охваченный противоречивыми чувствами. Сообщение Кулакова было, по сути своей, настоящей бомбой. Будущий взрыв мог снести губернатора начисто. И не только его. Причем, подозрительный Лисецкий, кажется, утратил бдительность и вообще не догадывался о готовящемся против него заговоре. Но почему Кулаков решил мне довериться?
Конечно, это могла быть всего лишь интрига, затеянная им в расчете на то, что я передам его слова Храповицкому, а тот, в свою очередь, доведет их до сведения Лисецкого. И напуганный угрозой губернатор не замедлит вступить в торги с мэром Уральска, отдавая все что только можно, лишь бы сохранить власть.
Но подобная закулисная комбинация была не в характере Кулакова. Для этого он был слишком прямолинеен. Скорее всего, Гозданкер, встретившись с ним, поведал ему о случившемся в Амстердаме и о своем мне предложении. И Кулаков, чью тайну я хранил уже без малого год, предназначал мне в будущей коалиции особую роль.
Я испытал прилив знакомого азарта. Эта дерзкая затея меня волновала. Похоже, моя родная губерния стояла на пороге ожесточенной войны. И мне предстояло определиться с тем, за кого я буду драться. Тут уже речь шла не о захолустном Нижне-Уральске. Там на кону стояли только деньги, и все напоминало увлекательную шахматную игру с рассчитанными заранее вариантами. Но здесь была не игра.
В будущей войне можно было легко сломать себе шею. И Кулаков, и Силкин оставались избранными мэрами, и они не рисковали даже своей карьерой. Я же, в случае проигрыша, мог лишиться всего, в том числе и такого пустяка, как моя беспутная жизнь. Зная Лисецкого, я был уверен, что в такой схватке он не остановится ни перед чем.
И все-таки шансы на победу были. И в числе прочего они зависели от того, на чьей стороне я окажусь. Соблазн восстать против самого губернатора и свалить, наконец, его, самонадеянного и всемогущего, был для меня слишком велик.
Я не мог порвать с Храповицким и перейти на другую сторону только потому, что кто-то предложил больше денег. Это было бы недостойно. Но здесь дело было в убеждениях, а это, как мне казалось, совсем иное. Или это все равно было нечестно? Короче, в одном Кулаков был совершенно прав: здесь был предмет для размышлений, и свобода выбора гораздо лучше ее отсутствия.
Около одиннадцати вечера Лисецкий засобирался домой и после нескольких рюмок «на посошок» отбыл, увозя с собой Храповицкого и большую часть свиты, включая Николашу с Плохишом. Я решил задержаться, не потому, что мне нравилась вечеринка, а потому, что не хотел ехать с ними.
Как всегда бывает после ухода начальника, атмосфера сразу оживилась. Посыпались анекдоты и скабрезные шутки. Подвыпивший Силкин хохотал громче всех и болтал без умолку. Покинув свой стол, он сел рядом с Кулаковым и произнес тост «за дружбу двух великих российских городов». Все повскакали с мест и зааплодировали. Потом Силкин и Кулаков выпили на брудершафт и даже нестройно исполнили песню «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Пели, впрочем, отвратительно, путаясь в словах. Остальные подвывали по мере сил.
Для меня это принародное братание было лишним подтверждением тому, о чем поведал мне Кулаков. Силкин, как и все присутствовавшие, отлично знал о той неприязни, которую испытывал Лисецкий к мэру Уральска. Сейчас он публично показывал, что он, Силкин, не намерен слепо следовать указаниям губернатора и зависеть от его настроений.
Ближе к ночи Силкин вспомнил про меня и, обняв за плечи, вывел в холл и увлек в сторону.
— Еще раз хочу вас поблагодарить, Андрей Дмитриевич, — слегка заплетающимся языком завел он. — Хоть вы, конечно, и того… — Он хихикнул и покрутил в воздухе рукой. — Немного меня обманули. Но, главное, все-таки помогли! Ей-богу, я очень ценю.
Я молча склонил голову, демонстрируя свою готовность быть ему полезным и впредь.
— И я на вас рассчитываю в дальнейшем! — с многозначительным пафосом прибавил он.
Я вновь кивнул.
— Кстати, вы ничего не слышали про Ирину Хасанову? — вдруг вспомнил Силкин.
Я ощутил острый укол в сердце. Чтобы не выдать себя голосом, я просто помотал головой.
— Серьезно? — вскинул брови Силкин. Видно было, что сейчас, когда протокольные мероприятия остались позади, ему хотелось посплетничать.
— Мы давно не виделись, — с трудом выдавил из себя я. — Ее, кстати, почему-то не видно сегодня. Она не приехала?
Силкин смутился.
— Вы знаете, я решил ее не приглашать, — пробормотал он, пряча глаза и подтягивая спущенный галстук. — Конечно, она интересная женщина и все такое. — Он в замешательстве посмотрел на меня и вновь потупился. — 'Но все эти темные уголовные истории… — Он осекся и закончил торопливо. — Ей же уже предъявлено обвинение!
У меня перехватило дыхание.
— Не может быть! — пробормотал я севшим голосом.
— Да, там все очень нехорошо! — грустно заметил Силкин. — Очень жаль, конечно. Но есть свидетели того, что она угрожала этому бизнесмену. Забыл его фамилию, Собакин, кажется. Прокуратура собрала доказательства. Я сам разговаривал с прокурором города. Между нами говоря, он подозревает ее и в убийстве мужа. Ее бы арестовали, если бы не ребенок. Вдова, как ни крути! С нее взята подписка о невыезде.
Я почувствовал, как внутри меня все оборвалось.
— С заводом, кстати, тоже дела развиваются очень плохо для нее, — продолжал Силкин с сочувствием, деланным или искренним, я не мог разобрать. — Она уже проиграла суд в первой инстанции. У нее забирают имущество. Вы не подумайте, я сам за нее очень переживаю! — добавил он, словно оправдываясь. — Но, согласитесь, в моем положении общаться с ней было бы как-то… неуместно. К тому же, говорят, она стала выпивать…
— Чушь собачья! — не выдержал я. — Сейчас будут придумывать все подряд!
— Да я и сам не верю! — защищаясь, вскинул ладони Силкин. — Но ее каждый день видят в ночном клубе… Да неужели вы и вправду ничего не знаете? Вы же, помнится, встречались? Я хотел сказать, дружили, — торопливо поправился он.
Его кто-то окликнул, и он, извинившись, сразу убежал, радуясь, что можно закончить разговор на эту неприятную ему тему. Я остался на месте, нервно затягиваясь и кусая губы.
Я был кругом не прав.
Я отгородился стеной от всех нижнеуральских сплетен. Я не хотел ничего знать и слышать. Я старался не интересоваться тем, что происходило с ней в последнее время. Я не желал новых болезненных переживаний. Но меня это совсем не оправдывало.
Эта женщина была причастна к убийству двух человек, одним из которых был ее муж. Это было преступно, бесчеловечно, если угодно, отвратительно. Но ведь это была моя женщина!
Разве я с самого начала не чувствовал в ней опасности? В ее вспыхивающих зеленью кошачьих глазах, во внезапных взрывах ее ярости, в ее вздрагивающей походке, в ее безрассудстве? Разве не эта опасность так влекла меня к ней? И разве я не сделал все, от меня зависящее, чтобы ее скрытая натура не вырвалась, наконец, на волю.
Я вспомнил тот обжигающий озноб, который испытал, когда шел с ней, полуголой, по улицам Амстердама, и ту сумасшедшую ночь, что была после. Это была цена за все, что она совершила. В том числе и за кровь. А значит, платить мы должны были вместе. Она и я. Какое право я имел судить ее?
Любовь и дружба не совместимы с приговором. Они заканчиваются сразу, как только вы начинаете судить близкого человека. Когда друг сообщает вам о том, что он кого-то убил, то предполагается, что вы берете лопату и молча идете закапывать труп. А если вы начинаете рассуждать на тему правильности его поступка, то какая разница между вашей дружбой и нашим справедливым судом?
Я любил ее, я спал с ней. Значит, я отвечал за нее. За преступную, лживую, несчастную, самонадеянную. А сейчас еще и раздавленную. Как я мог ее бросить?! Женщин не оставляют из принципов. Их оставляют, только когда перестают любить. Судя по тому, как рвался и болел каждый мой нерв при одном воспоминании о ней, разлюбить ее мне предстояло не скоро. Тогда что я делал здесь?
Поиски я начал с «Фантома», и мне сразу повезло. Народу в казино почти не было, столы пустовали, и за ними зевали крупье. Я увидел Ирину, едва переступив порог игрового зала.
Она сидела в отдалении, одна, на высоком стуле, в черном брючном костюме. Прямая, раздраженная, с вызывающе вскинутым подбородком и, кажется, порядком пьяная. Меня она, кстати, не заметила.
Перед ней стоял бокал с коктейлем. Не оглядываясь по сторонам, она бросала фишки на стол, отдавала короткие команды крупье, проигрывала, хлопала ладонью по зеленому сукну и ругалась. В этой демонстративной агрессии было что-то беспомощное. Она была похожа на одинокую актрису, которая после провала спектакля в пустом театре зачем-то пытается сыграть свою роль заново. Или на обиженного сердитого ребенка.