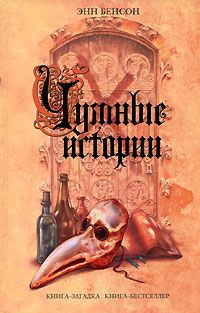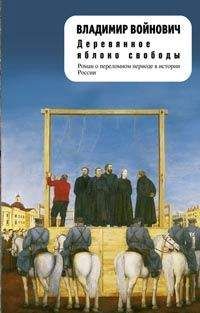«Башня или какой-то колодец», — подумал он, но исходя из того, что свет проникал сквозь нижнюю дверцу, сообразил, что не под землей. Лишенный влаги, какой мог бы утолить жажду, Алехандро тем не менее порадовался тому, что в помещении сухо, и, значит, он избежит тех болезней, которыми страдали от сырости заключенные, виденные им в медицинской школе. По крайней мере, не будет плеврита. Он знал, что глаза быстро свыкнутся с темнотой, но пока почти ничего не видел. Когда он вытянул руку, то не смог различить ее. Он помахал ею перед собой, почувствовал движение воздуха, но пальцев не разглядел. Тогда он сел, прислонившись спиной к стене, и стал ждать. Постепенно, как он и думал, глаза начали что-то видеть, но смотреть здесь было не на что.
Он следил за полоской света, отмечая в нем каждую перемену, и со страхом ждал наступления ночи, когда окажется в полной тьме. Угол света не изменялся, и Алехандро пришел к выводу, что за стеной рассеянный свет и, значит, дверца выходит в другую комнату или коридор. Время шло, свет наконец стал меркнуть, и Алехандро приготовился к долгой беспросветной ночи. В узилище его было до странности тихо. «Если бы я был в тюрьме, — подумал он про себя, — то здесь наверняка слышны были бы разговоры или крики».
Когда наступила ночь, он чувствовал себя так, что уже не мог отмахнуться от своих ощущений. Горло от жажды саднило, пустой желудок не переставая урчал, жалуясь на свою горькую судьбу. Сон не приходил — вместо него нахлынул страх, и воображение рисовало картины того, что его ждет, одну мрачнее другой. С ужасающей ясностью Алехандро вспомнил, как поступили с другим человеком, который так же, как он, осквернил могилу. Городские власти, посоветовавшись с отцами Церкви, нашли для него вполне логичное, подходящее случаю наказание: несчастного похоронили живьем, чтобы дать ему время обдумать свое злодеяние при обстоятельствах, сходных с теми, что сопутствовали преступлению.
«Как же мне убедить их, что я не преступник, что мне нужны были только знания, а Папа в своем невежестве не оставил никакого другого способа их добыть? Я не ограбил могилу, я лишь извлек из нее усопшего, и то только на время. Я все вернул бы на место». Час за часом терзал он себя раскаянием, но отнюдь не из-за того, что жалел о содеянном. Он корил себя только за глупость, которая позволила преследователям его поймать. Перебирая в памяти каждую деталь, он искал ошибку и не находил ее. Виною всему оказалось лишь печальное стечение обстоятельств. Чем дальше, тем острее он чувствовал несправедливость и к тому времени, когда первые проблески света просочились в дверную щель, решился бежать.
Однако план рассыпался в прах в то самое мгновение, когда, вскоре после рассвета, дверца распахнулась и ворвался такой невыносимый свет, что Алехандро почти физически ощутил его как удар и шарахнулся в угол, прикрывая глаза рукой. На полу перед дверцей появились миска с водой и кусок черствого хлеба, после чего она мгновенно захлопнулась. Все произошло так быстро, что застигло Алехандро врасплох. На языке у него вертелась тысяча вопросов, а возможность задать их исчезла, едва мелькнув.
— Пощадите! Прошу вас, скажите, где я! Во имя любви Господней дайте свечу…
Ему смертельно хотелось пить, но он понимал, что тюремщик уйдет и тогда кричать будет бесполезно. Он кричал до тех пор, пока оставалась надежда быть услышанным. Потом сел на колени, страдая от унижения, отвергнутый всеми, даже тюремщиком, и принялся за свою скорбную трапезу, вылизав миску так, что не пропала ни единая капля бесценной влаги.
«Еще целый день и целая ночь», — подумал он, готовя себя к худшему. Мысль о том, что придется провести здесь, в темноте, в одиночестве и безмолвии еще один день, приводила его в отчаяние. Он знал, что если потеряет над собой контроль, то тогда первым сдастся не тело, а рассудок, который, жаждая света и звука, начнет их выдумывать. В таком случае лучше смерть, чем безумие. Самым безжалостным унижением показалось ему то, что и покончить с собой в этой черной норе было нечем.
* * *
Посредине огромного зала возле дубового стола с узорной резьбой друг против друга стояли два человека. В зале, украшенном коврами и гобеленами, царила полная тишина.
Епископ жестом пригласил гостя сесть. Старый еврей поклонился в знак благодарности и, аккуратно поддерживая складки своего одеяния, опустился на стул. Спина у него была сгорблена, и не только под бременем лет, проведенных над бухгалтерскими книгами, но — как подумал епископ — видимо, от каких-то еще тягот. Движения у старика были неуверенные, голос подрагивал. Внешне он был совсем не похож на того Авраама Санчеса, какого епископ представлял себе после долгих лет переписки.
Монсеньор Иоанн, нынешний епископ, был возведен в сан и прибыл в Арагон по распоряжению его святейшества Папы Иоанна XXII, в тот же год, когда Авраам Санчес по приказу отца вошел в семейное дело и занялся ростовщичеством. С тех пор Авраам всегда помнил, какое пережил разочарование, узнав, что ему никогда не позволят стать тем, кем он хотел. «Пусть твои братья работают руками, — сказал ему отец, введя в комнату, где хранились приходно-расходные книги. — Ты в жизни не будешь держать ничего тяжелее пера». Знал он и то, что, именно помня свои обиды, внял уговорам сына и позволил ему заняться медициной, к которой сам относился с сомнением. Теперь-то он понимал причину отцовской жестокости и жалел, что не смог удержать сына дома.
С тех пор прошло много лет, за которые еврей не раз помог церкви решить денежные дела, и переписка их с епископом насчитывала больше трех сотен писем. Отношения их были выгодны для обоих. Авраам со своей стороны дал возможность почтенному прелату в любой момент получать почти любую наличность для дорогих обрядов, ни разу не высказав своих мыслей о том, что Богу должно быть все равно, в каком доме и в какой одежде ему служат. Он довольствовался процентами, держал свой цинизм при себе, а с течением лет проникся уважением к Иоанну.
Епископ относился к нему с тем же почтением и потому был удивлен, увидев перед собой человека, с виду немощного настолько, что казалось невероятным, чтобы такая развалина могла теперь вести дела твердой рукой, чем всегда отличался Дом Санчесов. Изучая друг друга, оба долго молчали, и каждый пытался соотнести образ собеседника, сложившийся из переписки, с тем, что видели его глаза.
Епископ заговорил первым:
— Вы, мой друг, оказались совсем не таким, каким я вас себе представлял. Я считал, что вы меня выше. Вы настолько могучий финансист, что я представлял вас гигантом.
Маленький, хилый старик улыбнулся.
— Прошу меня простить, ваше преосвященство, если я вас разочаровал. Мне остается только надеяться, что ум мой с годами не одряхлел подобно телу.
— Насколько мне известно, едва ли, — рассмеялся церковник. — А теперь позвольте пригласить вас к столу. Путь у вас был неблизкий, а мы оба не молоды.
Епископ дернул шнурок, призывая послушника, и через несколько минут тот внес на прекрасном серебряном подносе хлеб, сыр и фрукты.
Епископ благословил еду по-латыни, еврей пробормотал себе под нос несколько слов на иврите. Когда же оба одновременно закончили короткую молитву, взгляды их, обратившись к свечам, встретились. Иоанн поднял серебряный кувшин, налил вина в два бокала. Взял один, полюбовался на свет цветом вина, игравшего роскошными красками, и протянул его гостю со словами:
— Итак, Авраам, вот мы и встретились лицом к лицу после стольких лет. Не скрою, мне любопытно узнать, что вас сюда привело.
Старый еврей, не ответив, занервничал, и нож, которым он резал лежавший на подносе сыр, дрогнул. Епископ же понял, что судьба дает ему против ростовщика орудие, которым когда-нибудь он непременно воспользуется, каким бы ничтожным оно ни оказалось, и подстегнул старика, изобразив на лице сочувствие.
— Прошу вас, Авраам, — сказал он. — Вам и самому прекрасно известно, что мы здесь с вами за нашей скромной трапезой не просто хозяин и не просто гость. Если вас постигла нужда, говорите о ней смело. Вы пришли в Дом Господа, и Он не оставит вас Своей милостью.
Авраам, стараясь забыть про боль в старческих костях, попытался придать себе вид уверенный и достойный. Он даже будто бы показался собеседнику выше, когда выпрямил спину и расправил плечи, сидя на своем резном стуле. Мельком еврей подумал о том, что стул этот, произведение искусства, стоит, наверное, крестьянскую десятину с дворов этак примерно пятидесяти. Окинув взглядом зал, он заметил, что таких стульев вокруг стола двенадцать. «Ну, если кому-то здесь хорошо сидеть, зная, сколько на них потрачено, то деньги не пропали даром», — подумал старый еврей.
Он прокашлялся, прочищая горло.
— Ваша милость, — начал он осторожно. — Наверняка ваши осведомители уже сообщили о том, что произошло в Сервере.