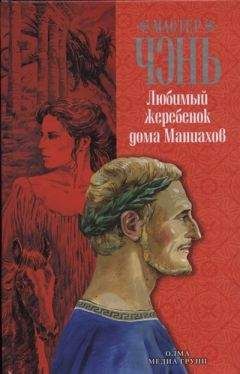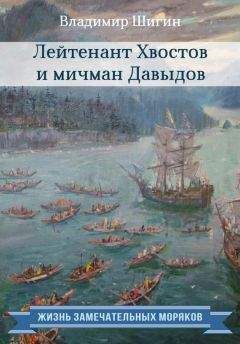— А можно я вообще ничего не буду говорить и останусь просто варваром, даже не ксеном? — сказал я, подумав.
Все сочувственно засмеялись — и перестали обращать на меня внимание, даже при всех моих славных шрамах. Из разных концов залы слышалось:
— А епископ римский…
— Кто его слушает, этого епископа римского, пусть радуется, что император не отобрал у него вообще все доходные земли…
— А епископ римский все равно не согласится никогда с тем, что на стене храма нельзя изобразить лицо бога.
— Не отобрали бы у него Сицилию, Калабрию, Крит и Неаполь — согласился бы…
— Любопытно, — ни к кому не обращаясь заметил я. — Изображать бога у вас сейчас запрещено, но почему-то все знают, как он выглядел.
— Естественно, — сказал рыжий Андреас. — Бог, кстати, выглядел в точности как Аркадиус. И сколь это, наверное, было хорошо, когда в каждом храме богородица с младенцем всегда смотрела на тебя со свода за алтарем, а лицо Аркадиуса всегда было над головой. Я не спорю с императором, — заметил он слушателям, — тем более поскольку бог дарует ему одну победу за другой, значит — император прав. Но оспорьте меня — Аркадиус очень неплохо выглядит, и его лицо…
Я в очередной раз перестал что-либо понимать, но тут сам Аркадиус сказал мне «сейчас» и отправился куда-то в теплую тьму. Вернулся с угольком и, ломая его и вполголоса ругаясь, начал набрасывать что-то на стене.
Стало тихо.
— Аркадиус, друг мой, — ядовито обратился к нему Никетас, по лицу и животу которого текли струйки, — ты только что сделал эйкон. Изображение. И не просто изображение, а сам знаешь чье.
— А как иначе я объяснил бы господину наставнику мысль нашего друга Андреаса? — повернулся к нему Аркадиус.
Со старой штукатурки на меня смотрело удивительное лицо. Да, мне все стало ясно — их бог внешне действительно был очень похож на Аркадиуса, или наоборот. Но меня это уже не интересовало.
То было длинное, скорбное лицо с запавшими висками. Молодое, но и старое одновременно. Два мягко полусогнутых пальца правой руки, тяжелая книга в левой… неважно, все это неважно, важно лишь, что я был не в силах оторваться от этого взгляда. Человек не может так смотреть на тебя. Это и правда был бог.
— Они же разные, — сказал кто-то.
Ну, конечно они были разные, его глаза, вот в чем дело: громадные и широко открытые, но один — грустно-прощающий, другой — строго расширенный и предупреждающий.
— Ты идолопоклонник, Аркадиус, — высказался Никетас.
— О друг мой, друг непреклонный, наш мастер просто объясняет господину наставнику, что этого… идола можно и сегодня увидеть там, на горе Синай, — возразил ему Андреас.
— Ну, да, — сказал кто-то, — саракинос оставили наших идолов в неприкосновенности. А здесь…
Я перевел взгляд на изображение. По запрещенному лицу казненного бога текли темные струйки испарений, размывая уголь. Лицо таяло и исчезало.
— Ну, и как бы я объяснил это, не изобразив лицо как оно есть? — говорил кому-то Аркадиус. — И вообще, Иоанн из Дамаска гласит — и никто пока его не опроверг …
— А то, что он в прошлом году умер, твой Иоанн, ты слышал? — ехидно пробормотал кто-то.
— Так, нельзя ругаться в бане, — сказал Никетас и поднялся. — Андреас, удивительный, защитник темной старины, пойдем и возляжем на камень. Кто меня сегодня моет — ты?
— О, прав ты, бесконечно прав, — согласился Андреас. — Ругаться мы не будем здесь. Я только хотел сказать, что ты не попадешь в царство небесное, Никетас. И не потому, что обижаешь Аркадиуса, с его божественным лицом. А потому, что ты жирный, мой друг. В твоей внешности нет ничего духовного. И раз мы ведем эти серьезные разговоры, то вспомни, вспомни, с чего начинаются восемь порочных желаний — а начинаются они с обжорства…
— Это ты мне будешь говорить об обжорстве?! Да тебя, с твоей духовной внешностью, надо поставить отгонять змея, живущего под полом… Он в жизни не высунется, пока ты здесь…
… — а уже только на втором месте телесный грех с женщиной — чаще всего как результат того же обжорства. И только потом идут жадность, печаль или отчаяние, гнев и все прочее. В общем, серп наказания порежет на куски корпулентного узурпатора и уничтожит его раздувшуюся плоть.
— Я не узурпатор…
— Нет, нет, просто строчка красивая, мы уже все знаем, кто ты — то есть кем скоро будешь. О печаль. И вот кстати, а помнишь ли ты, о Никетас, одного императора — он слишком хорошо собирал налоги — которого его слуга забил в ванне большой мраморной мыльницей? Вспомни об этом, когда я буду мыть твою корпулентную плоть… И устрашись…
— А я хотел в детстве… — произносит в этом хаосе голосов кто-то из младших, — стать букелларием. Эта железная перчатка, и знамя в ней, и эполеты…
— Зря хотел. У нас в квартале живут сразу два букеллария, на отдыхе. Оба безрукие. Саракинос первым делом рубят ту самую перчатку, и хоть она и железная…
Их голоса затихли под сводами, но о них мгновенно забыли, потому что из полумрака показалась Даниэлида. И тут все окончательно перестали коситься на завернутую в полотно несчастную Анну, все это время перемежавшую согдийскую речь с диким хихиканьем.
Потому что Даниэлида, конечно же, не была завернута ни во что.
Она была не просто голой — а потрясающе голой, грудь ее еле заметно раскачивалась при ходьбе, а тяжелые, идеально круглые бедра при весьма хрупкой талии просто пригвоздили нас всех к скамьям.
Даниэлида спокойно прошла мимо нас и приблизилась к Аркадиусу, скорбно стоявшему, склонив голову, в своей набедренной повязке у тающего эйкона на стене. Повернулась, демонстрируя всем несравненных очертаний ягодицы. Взяла его за руку, показала ему кусок мыла в другой руке и повела куда-то в глубь гулких залов, среди огоньков и теплой влаги.
За ее раскачивающимся задом оторопело следили все.
— Вот так это бывает, — сказал кто-то. — Все-таки здесь парадисос. И Рим тоже.
А может быть, он сказал что-то иное, потому что Анна, замученная работой, к этому моменту сбежала — не хотела смущать Аркадиуса своим взглядом? — и укладывалась на большой камень в центре главного зала. Начал себе искать место и я.
Нежный жар постепенно проникал в меня от камня, вытертого когда-то сотнями тел давно ушедших людей.
Как тихо, подумал я, слушая полусонные голоса вокруг. Слишком тихо. Помнится, так же тихо было по вечерам на одной памятной мне площади в Мерве. А потом оказалось, что времени не остается, надо было раньше предвидеть, что со мной сейчас произойдет. Теперь же — только нестись вскачь… и мы неслись, гремя проклятым железом войны, не останавливаясь, на запад, через горы Ирана, неслись до… в моем случае — до этих самых мест. Где из всех «мы» остался только я.
Тут я повернул голову и увидел тонкий стратегический маневр Зои.
Даниэлида с Аркадиусом, понятное дело, уединились где-то в темных углах бани, и это место юноши почтительно обходили стороной, отворачиваясь и разбиваясь на пары для мытья друг друга.
Из женщин, значит, оставались только Зои и Анна, но вот Зои незаметным движением руки послала Ясона намыливать мою переводчицу где-то в уголочке. И посмотрела на меня.
Нас было видно в полумраке многим, но покрытый боевыми шрамами варвар, наверное, единственный имел полное право прикасаться к телу Зои.
— Даниэлида, как я вижу, в итоге не оставит вниманием никого? — вполголоса спросил я, садясь рядом с Зои и глядя на ее беззащитную спину.
— А кого-то не оставит и дважды, — невнятно подтвердила она. — Да хоть и трижды. Ей за это заплачено. И очень неплохо заплачено. Можешь себе представить, сколько стоит выпускница школы мимов в Газе, лучший мим в Городе, да еще и сочиняющая знаменитые песни. Но мне не надо, чтобы мои мальчики бегали там, по городку на холме, в поисках невинных девиц. Все что угодно, только не это. Побьют, и не посмотрят… Нас и так там не любят… из-за этих звуков по ночам.
Но ко мне Даниэлида не подойдет, понял я. Конечно, не подойдет. Потому что…
Даниэлиде не нужна одежда, подумал я — эта смуглая кожа, обтягивающая идеальные мышцы, вот лучшая одежда, если не броня. Что такое великолепная женщина? Вот слабые и тонкие пальцы Зои, выскальзывающие из моей намыленной ладони, они кружат голову, их хочется взять и положить поближе к собственной ноге, чтобы они хоть чуть касались ее. Беззащитная мягкость этого тела, которое было юным довольно давно, еле заметные морщинки кожи — так мы теряем голову.
— Ах, вот еще кто ты, — пробормотала Зои. — Неожиданность. Ты не только воин, ты и лекарь? Что ты такое делаешь с моей ногой, чего никто другой не может? Я не ошиблась, я не ошиблась…
— И лекарь, — подтвердил я, сгибая ее безвольную ногу в колене. — После второй битвы я уже сам не знаю, кто я.