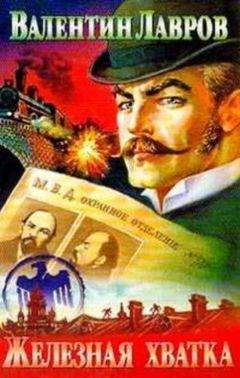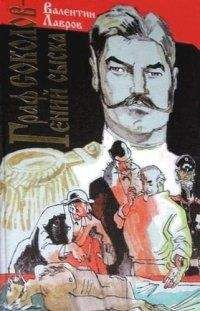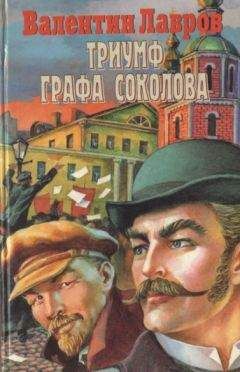— Бегу, грешник, в трактир, рюмку за ваше превосходительство перекувыркнуть! Душевный вы человек...
Сахаров пожал руку Сильвестру:
— Молодец, важнейших свидетелей раскопал!
— Да уж, теперь многое в деле может проясниться, — зарделся тот. — Я по книгам выяснил, что Хорек был вкладчиком в банке Шапиро. Ясно, что он сделал наводку, Чукмандин совершил хищение. Деньги поделили. Чукмандин, как свидетельствуют знавшие его, был алчным. Он задушил Хорька, забрал все деньги себе. И сделал это с помощью Клавки. Потом завлек ее в сарай, совершил прелюбодеяние и убил — боялся, видать, болтливой свидетельницы. Мадам Карская показала, что Чукмандин частенько заходил в ее веселое заведение, но проводил время исключительно с Клавкой, — чувства-с!
Соколов участия в беседе не принял. Он покрутил ручку телефона, произнес в трубку:
— Барышня, соедините меня с директором Сибирского торгового банка, номер 317-89! Шапиро, это ты? Меня хорошо слышишь? Запечатай в конверт одну тысячу рублей ассигнациями и срочно с курьером отправь на Хлебную биржу, это соседний дом с твоим банком. Запиши фамилию — Матрена Пузанова. Чего? Нет, похищенное не обнаружила, а нашла свидетелей — это порой дороже денег: — и дал отбой. Потом вытащил из жилетного кармана часы. — Друзья, прощайтесь, нам, Евгений Вячеславович, пора на Саратовский вокзал.
Сахаров назидательно сказал:
— Ты, Сильвестр, в Москве незаменим, продолжай действовать столь же энергично!
* * *
Через несколько минут коляска покатила сыщиков через весь город — многолюдный, оживленный, веселый. Соколов сидел погруженный в свои нелегкие думы, словно его сердце чувствовало: над головой уже нависла смертельная опасность.
Над Москвой с утра ходили густые, с темно-сизой подкладкой, тучи.
— Надо бы успеть до дождя добраться, — озабоченно сказал Сахаров.
Соколов ничего не ответил, лишь махом взлетел на заднее сиденье, отчего легкая рессорная коляска заходила ходуном.
Гений сыска был весьма задумчив и молчалив. Это насторожило Сахарова. Он размышлял: «Заметил: если граф в себе замыкается, то это означает — чувствует необыкновенную опасность. Уж очень натура у него чуткая. Как бы чего не случилось!» И начальник охранного отделения привычным движением ощупал кобуру: «На месте!» С недавних пор он стал носить, как Соколов, револьвер германских полицейских — мощный «дрейзе». Придет день, когда он его спасет от беды.
...Скорые события показали, что Соколов в своих худших предчувствиях не ошибался.
Коляска была запряжена парой резвых молодых лошадок, которые, словно радуясь своей прыти, резво зацокали подковами по булыжной мостовой.
Когда проезжали Овчинники, начался прямой — стеклянными нитями — дождь. Казенный кучер Антон, противный брюзга, осадил разогнавшихся лошадей:
— Тпр-ру! Башка у вас большая, а мозгу в ей, как у таракашки — какашки. Соображать обязаны: их благородия изволят мокнуть. — И он, спрыгнув на землю поднял кожаный задок. Обратился к седокам: — Ватер-пруфы достать? Или так дотрусимся? Езды — что волосок с ...
— Да гони, оглашенный! — заревел Соколов.
— Едем, едем! Вы, благородия, потерпите, а я не подкачаю, домчу. От дождя тоже привычку иметь надо. И дождь чего? Вот если б с неба, скажем, булыжники летели, то это, понятно, нехорошо. Но! — хлопнул вожжами по сытым бокам лошадок. — То ли отцы святые терпели? В житии сказано, как на одного угодника червь был напущен. Ей-Богу! Уж как, поди, сердечному неприятно было, а терпел. А дождь — тьфу! Вот и приехали.
Саратовский вокзал, отстроенный лишь в девятисотом году, поражал своей утонченной архитектурой и гигантскими размерами. К фасаду то и дело подлетали коляски, носильщики волокли на плечах тяжеленные поклажи, городовые и филеры бдительно следили за порядком — царило обычное вокзальное оживление.
Не успел Антон остановить горячих, но малость запыхавшихся лошадей, как к коляске подскочил услужливый мужичок с бритым румяным лицом, в холщовом картузе, в переднике с бляхой:
— Извольте, господа, услужить насчет багажика!
Об удивительной памяти Сахарова ходили легенды. Он, кажется, помнил всю громадную рать осведомителей не только в лицо, но умел рассказать биографию и послужной список каждого из них. Вот и теперь он рассмеялся:
— Не надорвись, Федор Муштаков!
Носильщик близоруко прищурился, оскалил желтые крепкие зубы:
— Ах, батюшки, оказия какая! Простите конфуз, ваши благородия. Второпях не разглядел...
С удвоенным рвением он бросился к багажнику, находившемуся в задке, и стал помогать Антону вытаскивать тяжелые чемоданы.
Соколов хмыкнул:
— Федор, не тряси поклажу господина полковника. У него спрятана банка нитроглицерина. Как жахнет! Я ведь помню, что именно ты арестовал скрипача со взрывчаткой[3].
— И тогда даже бедный Сильвестр Петухов пострадал от твоей богатырской десницы, — развеселился Сахаров, обращаясь исключительно к Соколову. — И напрасно! Человек он славный! — Начальник охранки любил похвалить своих сотрудников.
Пройдя под гулкими сводами вокзала, Соколов со спутниками оказался на перроне. Тяжелая махина паровоза уже разводила пары, жирно блестела смазкой, весело сияли тщательно протертые никелированные части. Богатый вагон первого класса выделялся деревянной желтоватой обшивкой.
Соколов вступил на зеленый ковер узкого длинного коридора. Двери с зернистыми стеклами кое-где были уже закрыты разместившимися за ними пассажирами.
Мужчина лет тридцати, мордатый, с густыми бровями, курчавившейся смолистой шевелюрой, с выразительными агатовыми глазами и в коротком однобортном летнем пальто, вежливо раскланялся с Соколовым и его спутниками.
— Где-то я видел его лицо, — Сахаров наморщил лоб, входя в маленькое двухместное купе. — Я усвоил золотое правило: обязательно вспомнить то, что запамятовал. Может, в министерстве? Или в Купеческом собрании на Малой Дмитровке? Да, кажется, он там играл в покер. Или?..
Гулко забил колокол. Торопливо заскрипели в коридоре быстрые шаги провожающих. Поезд дал два коротких гудка. Лязгнули буфера, вагон дрогнул. Медленно набирая скорость, покатился вдоль перрона с его густой, мокрой от дождя толпой провожающих. Здание вокзала таяло в туманной дымке.
— Давай переоденемся в сухое и пойдем в ресторан! — бодро проговорил Соколов, окончательно прощаясь с набежавшей было на него хандрой. Сейчас он испытывал приятное чувство: азарт охотника, вышедшего на опасного зверя. И еще: он полюбил Саратов и наивно провинциальных коллег. Все это заставляло с нетерпением ожидать прибытия в город на Волге.
По коридору, заложив руки за спину, прохаживался молоденький дежурный жандарм, застенчиво улыбнувшийся Соколову.
В ресторане было еще совсем малолюдно. Официант быстро поставил на пахнувшую свежестью белую скатерть графинчик водки, грибки, селедку с горячей картошкой и нежно-телесного цвета лососину.
Едва выпили по первой, как в дверях, вопросительно озираясь, появился тот самый мужчина с агатовыми глазами, что показался столь знакомым Сахарову. Вошедший вежливо произнес:
— Приятного аппетита, господа!
Сахаров отозвался:
— Коли наша компания вам не в тягость, милости просим! Меня зовут Евгений Вячеславович, а это компаньон — Аполлинарий Николаевич. Мы промышленники, в Саратов по делам стремимся. Водку пьете?
— Спасибо, с удовольствием разделю столь изысканное общество!
— За знакомство! Хотя, признаюсь, у меня ощущение, что мы с вами встречались. Лицо ваше знакомо...
— Очень возможно! Мне ваше тоже. Позвольте представиться: депутат Государственной думы третьего созыва, потомственный дворянин Тищенко Герман Мартынович.
Соколов вопросительно поднял бровь:
— От какой губернии?
— От Екатеринославской. Баллотировался вместе с председателем нашей земской управы Михаилом Владимировичем Родзянко. И еще в Думу прошел приятель моего покойного отца Образцов — преподаватель духовного училища.
— Если не ошибаюсь, он председатель отдела Союза русского народа? — спросил Соколов.
Тищенко с чувством превосходства улыбнулся:
— Нет, товарищ председателя. А я по личным делам направляюсь в Раненбург. Там умер дядюшка-помещик, богатое имение завещал мне. Пока налегке еду. Следует вступить в права наследства. Жажду посвятить себя жизни в деревне: без твердой руки хозяйство быстро придет в упадок. Я в прошлом году был в Зосимово — так зовется имение. Хозяйство в замечательном порядке. Но удручает положение некоторых крестьян: пьянствуют, отлынивают от дела, семьи их находятся в самом жалком положении. Хочу принудить их работать. Согласитесь, что это моя священная обязанность — заботиться о благе крестьян.