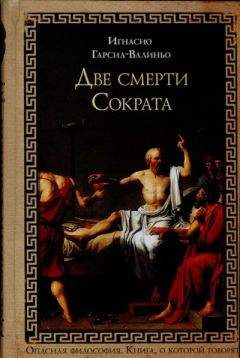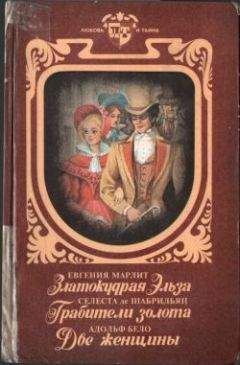Продик велел рабам дожидаться его на корабле. Ему хотелось пройтись в одиночестве, предаваясь воспоминаниям о смешном старом философе с нелепой козлиной бородой. На путника в черной тунике и широкополой шляпе никто не обращал внимания. Пирей лежал в руинах. Вереницы волов тащили повозки, груженные рыбой и зерном. Стоял гекатомбеон[76], месяц жатвы. Городские бастионы были заброшены, а сады превратились в кладбища. Война не оставила камня на камне. Как же такое могло произойти, как могло великое государство прийти в такой упадок? Продик шел неторопливо, шаркая разношенными сандалиями, и внимательно смотрел по сторонам. На многих могилах не было ни надгробия, ни стелы; лишь безымянные холмики. Кладбище квартала Горшечников выросло на много лиг, захватив окрестные поля и даже лес; повсюду виднелись глиняные надгробия. На месте разрушенных домов стояли убогие шатры из шкур, но квартал уже отстраивался заново: люди таскали камни, месили глину, тесали балки — как могли, восстанавливали свои жилища.
Когда Продик входил в город через Дипилонские ворота, его сердце болезненно сжалось. На пустыре у подножия Акрополя валялись разбитые бюсты тиранов. Миновав рынок, софист погрузился в знакомый шум и толчею квартала Горшечников. Продик спросил у водовоза, который брел по улице с козьими мехами за спиной, где похоронен Сократ. Водовоз пожал плечами.
Немного погодя софист задал тот же вопрос мальчишке, тащившему за собой упиравшегося осла с вязанками хвороста на спине. Паренек лишь почесал в затылке. Софист направился было к старику, который грелся на солнышке на пороге ближайшего дома, но тот наградил чужестранца недоверчивым взглядом. Продик спрашивал снова и снова — кожевника в перепачканном краской переднике, кузнеца… Никто не отвечал. В лучшем случае от софиста нетерпеливо отмахивались, в худшем — неприязненно сверлили взглядами, удивляясь, с чего этот подозрительный чужеземец пристает к каждому встречному с одним и тем же вопросом. Продик не уставал поражаться. Неужто ни один афинянин и вправду не знал, где похоронен самый знаменитый житель города? Как понимать этот заговор молчания?
О смерти Сократа скорбели даже за морем, но соотечественники не спешили посетить его могилу. С такими печальными мыслями Продик добрался до самого центра Афин и оказался на пороге «Милезии».
У входа, на мраморной плите красовалась витиеватая надпись. Продик самодовольно усмехнулся: правилам дома свиданий, которые он придумал и собственноручно начертал на стене много лет назад, были не страшны ни время, ни война, ни дожди:
Добро пожаловать, будь как дома, но помни, что ты в гостях: у нас есть правила, которые тебе придется соблюдать. Запрещается входить к нам пьяным и покидать нас трезвым. Запрещается скандалить. Запрещаются интимные связи между гостями. Запрещается обижать женщин. Запрещается уходить не заплатив. Соблюдай наши правила, и останешься доволен.
Продик толкнул дверь. В сумрачной передней витали запахи прогорклого пота и паленого жира, смешанные с ароматом благовоний и афродизиака. Софист осторожно ступал по мозаичному полу, огибая перевернутые скамейки; повсюду валялись пустые кратеры[77] и винные кубки, скомканная одежда, сандалии, свечные огарки, подушки… С расставленных вдоль стен лежанок свешивались мятые покрывала, в полутьме раздавался переливчатый мужской храп. Какой-то полуголый толстяк растянулся на полу, загородив проход в другую комнату. Продику пришлось слегка пихнуть его ногой. Толстяк мгновенно проснулся, потянулся, встал на ноги и, не обращая ни малейшего внимания на помешавшего ему незнакомца, полез под лежанку за своим хитоном. Он неловко сучил ногами, словно испытывал острое желание помочиться. Пиршественный зал напоминал поле битвы. Двое мертвецки пьяных гостей заснули прямо на сцене, положив под головы кифару и флейту. Гости вповалку спали на украшенном черно-белой мозаикой полу, словно чудом спасшиеся жертвы чудовищной катастрофы. Еще один выживший прикорнул в кресле.
Софист постоял немного, с усмешкой подмечая, как мало изменилась атмосфера дома за время его отсутствия, и хотел было идти дальше, но за спиной у него послышались чьи-то шаги. Продик обернулся. В зал вошла стройная женщина лет тридцати с тонкими и резкими чертами, а за ней темнокожий раб. Пышные волосы гетеры были уложены в замысловатую прическу, в ушах покачивались тяжелые серьги, на точеной белой шее сверкало изумрудное ожерелье, запястья и щиколотки украшали тонкие браслеты. Продик сразу узнал Необулу. Она улыбнулась:
— Добро пожаловать в «Милезию», софист.
Сократа похоронили ночью, чтобы не оскорблять светлых очей Гелиоса видом смерти. Тело вынесли из погребальной палаты и положили на телегу, запряженную мулами. Впереди шла обезумевшая, рыдающая Ксантиппа, следом тянулись немногочисленные друзья философа. Музыки не было — ни один музыкант не решился прийти на похороны. Процессия двигалась в кромешной тьме, освещая себе путь факелами. За гробом, кроме жены и детей Сократа, шли Аспазия, Горгий, Аполлодор[78], Эсхин[79] и Антисфен. Федон[80], Евклид[81] и юный Платон бежали в Мегару, спасаясь от тюрьмы, когда их заговор с целью спасти философа провалился. Тиран Мегары с распростертыми объятиями принимал беглецов от афинской демократии.
Похороны вышли скромные и безмерно печальные. Не было ни плакальщиц, ни надгробных возлияний; друзья тихо прощались со своим учителем, и только Ксантиппа, которая со дня смерти мужа плакала, не переставая, оглашала окрестности жалобными стенаниями. Прощание было недолгим. Антисфен глухо произнес:
— Он жил ради правды и умер за правду. Эсхин был не менее краток:
— Здесь лежит самый мудрый из греков. Аполлодор, по дороге к могиле сотрясавшийся в беззвучных рыданиях, проговорил сквозь слезы:
— Он был лучше всех нас и умер достойно. Смысл его жизни был в том, чтобы так умереть.
Когда скорбная церемония закончилась и друзья покойного разошлись, у могилы осталась только безутешная вдова; там ее и застал Продик. Из груди несчастной с каждым вздохом вырывались переливчатые жалобные стоны, словно у ребенка, который устал плакать и уже не надеется, что кто-нибудь придет на помощь.
Продику сделалось до боли жалко эту грузную, некрасивую сорокалетнюю женщину. Однако, приблизившись к вдове, он тут же невольно отпрянул: от нее исходил застарелый, звериный запах пота.
Ксантиппа подняла на Продика мокрые, красные глаза.
— Ступай домой, добрая женщина, — мягко сказал софист. — Тебе пора отдохнуть и совершить очистительный обряд.
Ксантиппа не отвечала. Двое чужих почти незнакомых людей молча стояли у могилы, а над полем, где среди маков и кустиков акации валялись черепки разбитых амфор, тоскливо завывал ветер. Издалека доносился петушиный крик.
Софист уселся на скамью, положив шляпу на колени.
— Люди рождаются и умирают в одиночестве, — пробормотал он.
Ксантиппа внезапно перестала плакать и повернула к Продику залитое слезами лицо.
— А ты не политик? — Произнося это слово, она содрогнулась от омерзения.
— Почему, добрая женщина?
— Ты так складно говоришь.
— Складно? — Продик не знал, что и сказать.
— Да, складно и важно — так политики говорят.
На вопрос вдовы непременно надо было ответить честно, однако софист, по правде говоря, и сам не знал, политик он или нет.
— От них только и жди беды.
— От кого? — не понял Продик.
— Да от политиков.
Софист поинтересовался, что она имеет в виду. Вдова пропустила вопрос мимо ушей.
— Надо же быть таким дураком, — хлюпала носом Ксантиппа. — А его еще мудрецом называли. Уж сколько я ему говорила: «Держи язык за зубами, не то бед не оберешься, кончай нести свои небылицы, ведь ты сам же их не понимаешь, не к добру это все».
— Какие небылицы?
— Он все говорил и говорил, все чего-то изучал и познавал, а себя самого защитить не смог. За всю жизнь так и не сказал ничего дельного. Одни глупости. — Ксантиппа тяжело вздыхала и всхлипывала: — Эх, Сократ, Сократ! Ты ведь был бы такой хороший, если б не эта твоя одержимость. Зачем ты морочил голову мальчишкам, зачем задавал им всякие нелепые вопросы? Ну не все ли равно, хорошо или дурно поступают другие — главное, чтоб ты жил в достатке, не голодал и соседи тебя уважали.
Софист улыбнулся. Задумчиво ковыряя пальцами ноги землю, он следил за вереницей гусениц, которые неспешно ползли куда-то по своим делам, старательно выгибая мохнатые спинки.
— Все эти бредни! Он все шатался по гимнасиям[82] и палестрам, высматривал мальчишек, а потом начинал забивать им головы своей ерундой. Лучше бы подумал, чем кормить своих детей. Что же это за горемычная жизнь, всегда одна, мучайся с детьми, заботься о муже, который тебя ни во что не ставит, и все равно одна останешься.