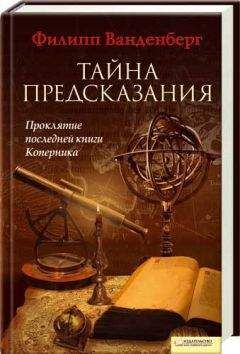Адам Фридрих Хаманн, могильщик с горы Михельсберг, все свои знания приобрел сам; он был частым гостем в монастырской библиотеке, куда более частым, чем почтенные братья, которые надевали белые манжеты на рукава своих черных сутан, чтобы изучать слово Господа или премудрости науки, и после этого засыпали. Могильщик, сведущий в чтении и письме, разбирающийся в законах геометрии, которые вывели Пифагор и Эвклид, был явлением в высшей степени необычным и подозрительным. Его образ жизни давал пищу для множества слухов и сплетен; Хаман-на называли подлейшим иезуитом-ренегатом, который из-за женщины отвернулся от Святой Матери Церкви.
Главной же причиной этих наветов было то обстоятельство, что Хаманн читал евангелистов по-латыни, как и положено было каждому набожному христианину во времена до Лютера, если он хотел познать слово Божье в его истинном виде. Поскольку Хаманн не имел средств, чтобы послать своих детей в школу, но имел природную тягу ко всему, что было связано с наукой и образованием, он играючи и без понуждения обучил дочь и сына чтению, письму (в том числе по-латыни) и закону Божьему.
Наряду с этим, а вернее, в первую очередь, он отправил Леберехта в ученики к каменотесу Карвакки. Это отвечало склонностям мальчика, ибо ничто так не волновало его, как колонны и скульптуры из мелкозернистого песчаника, придававшие высокому собору необыкновенное величие. Мягкий камень возрастом в триста лет, которому было так же далеко до твердости мрамора, как маленькому городку на реке до папского Рима, начал проявлять первые признаки разрушения, и Карвакки возглавил цех каменотесов и строителей, чтобы с помощью двух дюжин подмастерьев и множества поденщиков вести ремонтные работы.
Карвакки из-за труднопроизносимого имени, а также потому, что это внешне соответствовало действительности, прозвали Большеголовым. Он относился к тем нередким людям, которые в равной степени вызывают презрение и восхищение. Большеголовый был родом из Флоренции, однако по-франкски говорил лучше, чем заносчивые каноники. Он был гением, когда требовалось заменить поврежденную руку, вьющуюся прядь или отколовшийся край каменного одеяния какой-нибудь статуи. Карвакки без труда удавалось сымитировать технику оригинала, и, хотя в соборе едва ли было хоть два произведения, принадлежавших руке одного и того же мастера, его искусство по восстановлению не оставляло ни малейших следов. Но вместе с тем он был склонен к выпивке, распущенным бабенкам, расточительному образу жизни и дракам, частенько брал в долг. Сварливый, как прачки на реке Регниц, Карвакки не пропускал ни одной стычки. Да что там! Казалось, он волшебным образом притягивал к себе проблемы, как черт грехи, особенно в общении со священниками, от которых получал хлеб и работу.
На Леберехта Хаманна смелость наставника производила глубокое впечатление. Он сам видел, как Большеголовый по дороге к Домбергу плюнул под ноги проповеднику, доктору Атаназиусу Землеру, всегда перепоясанному пурпуром, да и пошел своим путем. И это — по отношению к святому мужу, которому господа из магистрата, преклонив колена, целовали перстень, а их жены трижды истово крестили свою шнурованную грудь!
Леберехт почувствовал на волосах ладонь Софи и услышал ее голос:
— Все будет хорошо. Шлюссель — человек хороший, поверь мне!
Юноша отер ладонью лицо. Он кивнул, хотя слова сестры ничуть его не убедили.
— А кто такой опекун? — спросил Леберехт и поднял глаза на Софи.
Та пожала плечами, прочертила пальцем крест на столешнице и неуверенно ответила:
— Ну, это как бы заместитель отца, который будет присматривать за нами, платить за твое обучение и охранять мою невинность.
Леберехт посмотрел в окно и уточнил:
— А почему именно Шлюссель, трактирщик с Отмели?
— Трактирщик с Отмели — человек зажиточный, честный и уважаемый, и, хотя он мог бы позволить себе иметь больше детей, чем любой другой в городе, у него лишь один-единственный сын. Мы должны быть благодарны Шлюсселю, слышишь?
Говоря все это, Софи начала вынимать белье из шкафа, который был устроен во внутренней стене и замаскирован широкой деревянной рамой. Она взялась укладывать вещи в высокую ивовую корзину, какие носят на спине рыночные торговки, и напомнила брату, указав на холщовый мешок:
— Тебе тоже надо собрать свое платье.
От предчувствия мрачного будущего, пугавшего Леберехта подобно опасному чудовищу, лицо юноши окаменело. Его охватил страх, такой страх, который превосходил даже скорбь о потере отца. Он чувствовал себя таким заброшенным, одиноким и беспомощным, как никогда в жизни. Словно во сне Леберехт собрал свою одежду, затолкал ее в мешок и взялся за кожаный ремешок деревянного ящичка, где хранился инструмент каменотеса — его гордость и единственное достояние. Даже не бросив последнего взгляда на обстановку своего счастливого детства, он покинул сумрачную комнату, шумно спустился по узкой крутой лестнице и вышел на воздух. Софи растерянно следовала за ним с ивовой корзиной на спине.
Пока они брели вверх по реке к мосту, который вел от бедного квартала работяг через реку к Отмели, Леберехт не сказал ни слова. Глядя на брата, опустившего глаза долу подобно канонику во время «Мизерере»,[3] Софи вдруг вспомнила слова ободрения, которые часто повторял их отец, когда того требовали трудные обстоятельства. «Выше голову, мой мальчик, где же твоя гордость?» — сказала девушка и улыбнулась.
Тут уж Леберехту пришлось рассмеяться, хотя глаза его влажно блестели, как темные ягоды в утренней росе. Без этого ободрения Леберехту вряд ли удалось бы сбросить покров, окутавший мысли и вызывавший в его воображении все убожество их будущего существования. Юноша с усилием растянул губы в улыбке, кивнул сестре и демонстративно вскинул голову.
Так, с шутками да смешками, они прибыли к трактирщику на Отмель, к фахверковому дому с широким белым фасадом и окрашенными в красный цвет балками. По обе стороны от входа со стрельчатым сводом и двустворчатыми воротами, обитыми железными ромбами наподобие щита крестоносца, тянулись окна с переплетами и круглыми стеклами.
Три или четыре каменные ступени вели в большое сводчатое помещение, вымощенное красным кирпичом. Слева, справа и впереди виднелись стрельчатые дверные проемы. Между ними вдоль стен стояли длинные черные скамьи и отслужившие свой срок винные бочки вместо столов.
Хотя было еще светло, трактир уже был полон и гудел шумом попойки.
Леберехту, как и его сестре, еще никогда не доводилось переступать порог трактира, и они растерялись. Однако толстоватый парень, жевавший вяленую конскую колбасу и с наслаждением сплевывавший на пол шкурки, вывел Леберехта и Софи из их затруднительного положения.
— Сироты Хаманн! — крикнул он снисходительно, что уж никак не пристало мальчишке его возраста. — Господи, спаси нас от всякого отребья! — При этом он небрежно перекрестился зажатой в руке колбасой.
Леберехт бросил свой мешок с одеждой на пол и уже замахнулся деревянным ящиком, чтобы ударить заносчивого толстяка, как вдруг из двери, что слева, появилась массивная фигура старого Шлюсселя, и эхо его сильного голоса прокатилось под сводами:
— Кристоф! Silentum! Abitus![4]
Толстоватый юнец опустил голову, повернулся и торопливо удалился, словно дрессированная собачонка.
С усмешкой, но нахмурив брови, трактирщик с Отмели навис над сиротами. На нем был темно-красный благородный камзол с пышными рукавами. Убрав руки за спину и плотно сдвинув толстые ноги, он раскачивался и приподнимался на пятках, будто хотел казаться еще выше. Взгляд его не отражал ни малейшего сочувствия, скорее даже был угрожающим.
— Марта! — гаркнул Шлюссель, и по боковой лестнице в зал сошла красивая рыжеволосая женщина. Ее гордая стать была столь же известна в городе, сколь и ее благонравие и доброта. Дважды в год, на праздники Богоявления и Святой Марты, эта женщина кормила бедных и снискала тем всеобщую благодарность и подозрение, что она — святая, как та благочестивая Елизавета Тюрингская, которая во время голода ежедневно кормила девятьсот человек, а после смерти мужа нашла приют у своего дяди, епископа. Без сомнения, Якоб Генрих Шлюссель и его супруга Марта были такими же противоположностями, как вода и огонь, небеса и преисподняя, добро и зло. И если Марта излучала добро, то трактирщик с Отмели — коварство.
Можно лишь гадать, какое стечение небесных или земных обстоятельств свело вместе этих двух людей, но, вероятно, за тем скрывался закон физики, согласно которому противоположности испытывают самое большое притяжение, в то время как согласие и гармония отталкиваются, как одинаково заряженные магниты. И если Марту считали красавицей и святой, то трактирщика с Отмели называли высокомерным, тщеславным, низким мошенником, для которого его заведение было лишь игрушкой. Обычно он разъезжал по стране, устраивая множество сделок и следуя своему любимому девизу: «Делай деньги с помощью денег». Шлюссель любил игру, радости застолья, прекрасный пол, и люди шептались, что благородную Марту он держит в своем доме лишь для того, чтобы украсить себя ею как драгоценностью. Во всяком случае — и это ни для кого не было секретом — страсти свои он утолял с распутной аристократкой по имени Людовика, которая была полезна и архиепископу, — вероятно, по той же причине.