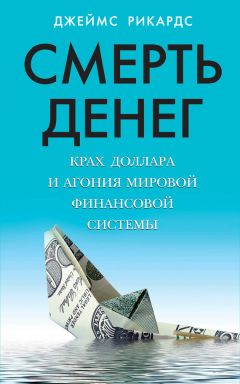К тому времени добрые люди уже рассказали им, какую змею пригрел Салех-паша у себя на груди. Телепнев и Кузовлев знали, за кого выдает себя здешний самозванец, но его подлинное имя оставалось для них тайной. Они помыслить не могли, что этот вор и тот, что проживал в Кракове, при короле Владиславе, – один человек. Послы настаивали на встрече с ним, и Салех-паша согласился устроить очную ставку у себя во дворце.
Во время их следующего визита кадиаскеры ввели в залу тощеватого паробка в аземском халате, без однорядки. Поклонившись сначала визирю, потом – послам, он с важным видом достал из рукава свиток и приготовился читать.
«Что это?» – спросили послы.
«Декларация в пяти виршах», – ответил самозванец и прочел:
Пять камней имел Давид в пастушьем тоболе,
Коли, не стерпев от неприятель сердечной боли,
Шел с пращей смело против страшного Галиада
Израильтянское бороняти стадо.
Тако же и мы, стоя за наших чад прироженных,
Имеем на неприятеля пять виршей, нами сложенных.
Далее шло подробное, по пяти пунктам, обличение московских неправд, при которых «тяжко от бояр народу и тесно». Слог декларации был темен, на слух Телепнев и Кузовлев плохо понимали, о чем речь, но встрепенулись, едва прозвучали строки:
Во всем том ты, Москва, добре оплошилась.
Блюдись, чтоб дверь милосердия Божия
пред тобой не затворилась.
Подразумевалось, что лихоимство приказных людей, неправый суд, неспособность воевод противостоять крымским набегам и вообще все российское неустройство есть Божья кара за то, что его, царевича Ивана, лишили родительского престола.
Возмущенные послы потребовали прекратить чтение.
«Царь Василий Иванович, – заявили они Салех-паше, – по грехам своим преставился сорок лет тому, а сему воришке и тридцати годов нет».
Возразить было нечего, турецкие архивы указывали примерно ту же дату смерти Василия Шуйского, но визирь сумел найти достойный ответ.
«Иной человек, – сказал он, – от роду имеет сорок лет и поболе того, а если он человек праведной жизни, Аллах в неизреченной благости своей ему на лице и двадцати годов образ кладет».
Выдать Анкудинова он отказался наотрез, однако и блюда со своей кухни посылать ему перестал.
Послы не успокоились и продолжили интригу. Их платным консультантом стал писарь диванной канцелярии Зульфикар-ага. Этот перешедший в ислам понтийский грек приватно оказывал бывшим единоверцам кое-какие услуги. Телепнев и Кузовлев подступили к нему с вопросом: «Как бы нам того вора достать?»
«Путь один – действовать большою казною», – отвечал многоопытный Зульфикар-ага. Впрочем, сам он сомневался в успехе предприятия и счел долгом предупредить послов: «Только не потерять бы вам казны даром, потому как люди здесь не однословы». Смысл был тот, что сегодня скажут одно, завтра – другое, а что им соболей или цехинов наперед будет дадено, назад не вернут.
Зульфикар-ага рекомендовал послам вообще бросить это дело. Мол, cильного вреда от самозванца все равно не будет, рано или поздно его куда-нибудь сошлют или даже пошлют гребцом на галеры, а если сулить за него большие деньги, турки могут подумать, что он и впрямь тот, за кого себя выдает. Телепнев с Кузовлевым вняли совету и отступились.
Не успели они добраться до Москвы, как Салех-паша впал в немилость и по приказу султана был удавлен собственными кадиаскерами. Печать великого визиря принял Ахмет-паша. На Анкудинова он никакого внимания не обращал, жаловать его по достоинству никто не собирался. При дворе о нем забыли напрочь. Обнищав, он попытался продать свой камень безвар, чудом сохраненный во всех скитаниях, но еврейские лекари требовали верных доказательств его подлинности, а турецкие о таких камнях отродясь не слыхали. Покупателя нужно было искать среди народов менее подозрительных, чем жиды, и более просвещенных, чем турки.
В конце концов все это ему надоело, Анкудинов бежал на север, но поскольку «астроломейские» познания были у него чисто теоретические, а на практике он Сириуса от Полярной звезды не умел отличить, роскошное звездное небо над Балканами ничем ему не помогло. Ночью он заблудился в лесу, утром был схвачен и доставлен в Стамбул. Ахмет-паша поставил его перед выбором из двух вариантов: принять ислам или отправиться на галеры. Пришлось побусурманиться, правда, с одним существенным послаблением – он повторил за визирем слова мусульманской молитвы, но обрезание сумел отложить на неопределенный срок. На него надели чалму и отпустили.
Все пошло по-прежнему, если не хуже. От безысходности Анкудинов бежал вторично, переодевшись в греческое платье и загодя разведав дорогу на Афон, чтобы укрыться в одном из тамошних монастырей, но погоня легко взяла его след. На этот раз под страхом смерти он согласился на обрезание. Был призван врач-еврей, прямо на месте совершивший нехитрую операцию. Ранку присыпали толченым углем и перевязали, Анкудинову вернули чалму, но не свободу. От греха подальше Ахмет-паша приказал посадить его в Семибашенный замок.
Терять ему было нечего, на прощание он сказал визирю: «Господарь молдавский с брата моего старшего велел содрать кожу и отослал ее царю в Москву, а оттуда ему ту кожу, наложив серебром, назад прислали. За мою кожу царь и за золотом не постоит. Того ли ты хочешь?» Не известно, что ответил Ахмет-паша, но эта их встреча оказалась последней.
Позже Анкудинов рассказывал, будто ангел Господень огненным мечом поразил его недругов и отворил перед ним двери темницы. Имелся в виду государственный переворот в августе 1648 года, когда Ахмет-паша был растерзан на ипподроме толпой черни, а султан Ибрагим II свергнут взбунтовавшимися янычарами и задушен подвязкой. На самом деле еще за полгода до мятежа Анкудинову помогли бежать жившие в Стамбуле сербские купцы. Через случайного сокамерника он вступил с ними в переписку и сумел заморочить им голову своей «астроломией». По ней выходило, что Оттоманской Порте суждено погибнуть через него, князя Шуйского, вот почему султан держит его в тюрьме, но казнит не раньше чем Юпитер сойдется с Меркурием, не то всей бусурманской вере будет большая беда.
Обе планеты находились уже в опасной близости, поэтому сербы не постояли за деньгами. В нужное время и в нужном месте они потрясли кошелек, полный золотых цехинов, на этот звон вышел из тумана мудрый Зульфикар-ага, переживший трех визирей. Вскоре «смрадная челюсть турская», как Анкудинов называл Семибашенный замок, выплюнула его исхудавшим от чревного недуга, с головой в лишаях, но, как всегда, веселым и бодрым. Напоследок, правда, один странный разговор подпортил ему настроение.
В камере он познакомился с одноруким албанцем, товарищем по несчастью. Руку ему отрубили за разбой, голову же оставили на плечах, потому что грабил он только христиан и евреев, а правоверным, не имеющим куска хлеба, отдавал часть того, что брал у неверных.
На прощание этот разбойник сказал Анкудинову: «Видишь ты сам, нет у меня левой руки. Отсекли ее и бросили псам на съедение. Изгрызли они мою руку, ни костей, ни ногтей не оставили, но в конце времен, когда мертвые, славя милость Аллаха, поднимутся из своих могил, встану я оттуда о двух руках».
«Откуда же вторая рука возьмется?» – удивился Анкудинов.
На это албанец с нехорошей улыбкой отвечал: «Если кто, как ты, например, примет истинную веру, а после отречется от нее, и если у него за какую-нибудь вину или без вины, на сражении, руку отсекут топором или саблей, при восстании мертвых та рука не ему, а мне приложится».
Он и одной рукой любому мог свернуть шею. Вопроса об истинной вере Анкудинов касаться не стал, но спросил: «А если у того человека рука сожжена будет или тоже псами поедена?»
«Не беда, – опять улыбнулся албанец, – она из пепла, из праха, из песьего кала воссоздастся. Для Аллаха ничего невозможного нет, все в Его власти, а Он знает, кому что придать и у кого отнять».
Почему-то эти слова запали Анкудинову в душу. Впоследствии он часто их вспоминал.
14За секунду перед пробуждением Жохову приснился двухэтажный белый дом на берегу неширокой реки, серой даже под ослепительно синим небом cередины лета. За ней, насколько хватало глаз, лесистой громадой вставала дикая гора с каменистыми осыпями ущелий и выступающими на вершине мрачными черными гольцами. Ни один листок не шевелился на болезненно изогнутых карликовых березках у подножия, кругом царила мертвая тишина. Что-то потустороннее было в этом пейзаже, что-то такое, от чего невозможно становилось дышать, словно землю от неба отделяла пустота, которая лишь прикидывалась неподвижным в своей прозрачности воздухом.
Внутри сна время текло по-другому, там Жохов мучительно долго не мог понять, где видел он этот безотрадный ланшафт, но, проснувшись, сразу понял, что гора – всего лишь Богдо-ул, река – Тола, а длинный белый дом под зеленой крышей – бывший загородный дворец Богдо-хана в Улан-Баторе. После смерти первого и последнего монарха независимой Халхи в нем открыли музей, Жохова водила туда знакомая монголка из министерства геологии. Она рассказывала, что Богдо-хан с детства покровительствовал животным, со временем при дворце образовался целый зверинец. Когда его обитатели умирали, из них делали чучела и ставили в дворцовых покоях как напоминание о том, в каких разнообразных обличьях все мы, перерождаясь, проходим свой земной путь. Это был наглядный урок смирения, терпимости и милосердия, выражаемых одним словом – «ахимса», что значит «щади все живое».