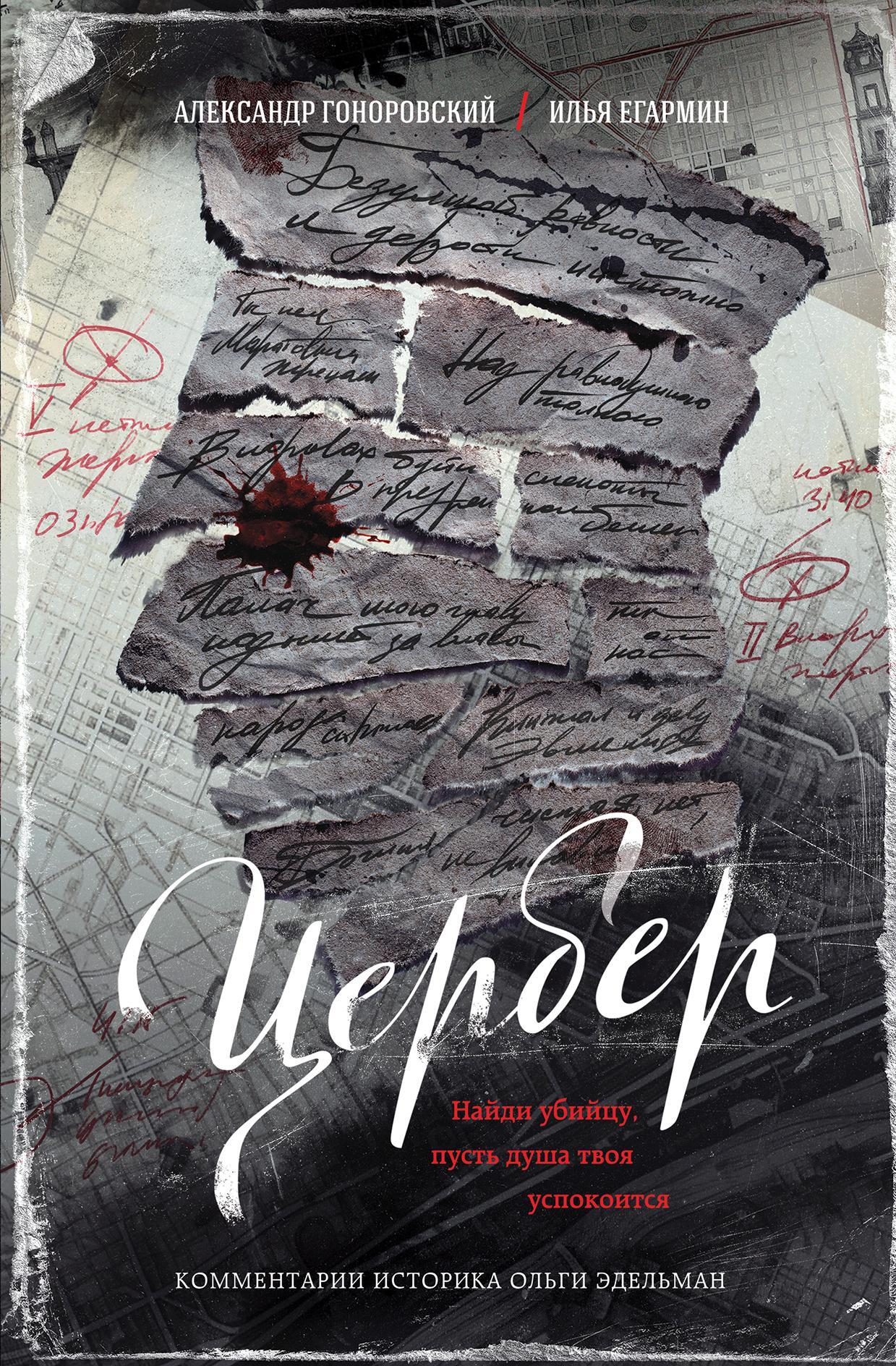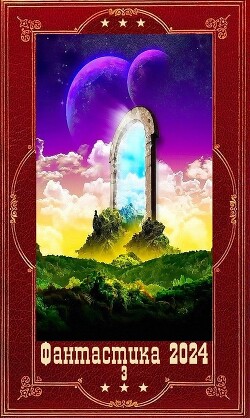менял его черты. Казалось, что Ушаков теперь был весел и счастлив тем, что на него наконец обратили внимание.
Взяв карандаш и надув от усердия щёки, второй ищейка принялся переводить портрет. Лист соскальзывал. Первый ищейка стоял за спиной у рисующего, чесал затылок.
– В адресной экспедиции искали, в военном ведомстве спрашивали… Как в воду канул этот Ушаков… А я теперь рисуй…
Второй ищейка поправил сползший лист, постарался продолжить съехавшую линию, но левый глаз Ушакова переехал на шапку и недовольно глядел из свалявшегося меха.
На подоконнике уже лежало несколько копий, одна страшнее другой.
– Тебе бы Исакий расписывать, – подал голос первый ищейка. – Там, где муки адские.
– А давай сам рисуй! – обиделся второй.
Нижняя губа на портрете свесилась ниже подбородка.
– Отметину на лбу не забудь, – посоветовал первый.
Второй ищейка намалевал точку в центре шапки:
– О… – показал первому ищейке последний рисунок. – А этот хорошо получился.
Распахнулась дверь, вошёл опухший от всего Лавр Петрович.
– Сколько ждать можно? Уже прибыли! – Лавр Петрович забрал рисунок. – Тут его и мать родная не узнает. Ладно. Идём.
Второй ищейка собрал портреты с подоконника в стопку. Трое сыщиков вышли из кабинета и, миновав узкий полутёмный коридор, оказались на заднем дворе управы, где на брёвнах у забора сидела толпа оборванцев. Увидев следователя с ищейками, бродяги прекратили разговор и уставились на них, как на ярмарочных циркачей. Было их пятнадцать человек, чуть живых с похмелья, босых, в растерзанных засаленных лохмотьях. Глаза блестели тускло, как вода в глубоком колодце.
Второй ищейка подошёл к бродягам, раздал копии.
– Глянешь – другому передавай, – объяснил он.
Копии пошли по рукам. Лавр Петрович ходил среди оборванцев, заложив руки за спину.
– Сколько ж их тут? – удивлённо сказал кто-то из нищих.
– Один, – с нажимом сказал Лавр Петрович. – Здоровенный, аки… аки… – Лавр Петрович не нашёл сравнения. – Даже больше. С метиной от пули на лбу. Не мужик, но рядится. Петрушка тряпичный. Среди народа прятаться может.
– Так и мы того… среди народу, – подал голос один из оборванцев. Разодранный тулуп с чужого плеча качался колоколом на его костях. Он опирался на костыль. В бороде блестела рыбная чешуя.
Лавр Петрович подошёл к оборванцу, подумал дать в морду, но просто с силой надвинул ему на глаза картуз.
– Как звать? – спросил.
– Босяткой, – оборванец ткнул чёрным пальцем в рисунок и кивнул в сторону бродяги со сбитым к скуле носом. – На Стёпку нашего похож.
Тот, кого назвали Стёпкой, поглядел на рисунок у себя в руках, и ему стало обидно.
– Однако урод, – сказал он.
Нищие засмеялись, разинув чёрные расколотые рты.
Ушаков отворил дверь флигеля, где располагался лазарет доктора Пермякова. В ноздри ударил острый медицинский запах. За стеной слышалось бормотание:
– Две головы – мука, три головы – венец… Две головы – мука, три головы – венец… Две головы – мука, три головы – венец… Покайтесь, дьяволы…
Следом раздался глухой тоскливый крик – для душевнобольных настало время вечерних процедур. Ушаков осторожно поднялся по ступеням, словно боялся, что они проломятся под ним.
Доктор Пермяков ждал его в кабинете. Ушаков тяжело опустился на стул. Рядом на столе, на чистой тряпице были разложены инструменты: зонд, пила, свёрла, пинцет с острыми, как шило, лопатками.
Пермяков взял с полки бутыль с мутной смесью, встряхнул, поглядел на свет.
– Водка, карболка, отвар ромашки, – доктор вылил смесь в неровную оловянную миску, принялся опускать в неё хирургические инструменты. – Надеюсь, этот состав убережёт вас от гнойного осложнения. Раздевайтесь.
Ушаков принялся неловко стягивать с себя мундир, свежую рубаху. Сегодня утром он вымылся в тазу с холодной водой, и его до сих пор бил озноб.
Пермяков указал на большой из толстых досок лежак, стоявший посреди кабинета. В изголовье были прикручены две скобы с широкими деревянными пластинами на толстом винте. По бокам и в изножье крепились ремни толстой свиной кожи.
– Прошу, – сказал доктор.
Ушаков лёг. Доктор затянул на его груди широкий ремень, прикрутил руки и ноги.
Голову Ушакова поместил между скобами:
– Вот так держите.
Доктор принялся вращать ручку винта; две деревянные пластины со скрипом пришли в движение. Тиски сдавили голову.
– Не слишком? – спросил Пермяков.
Ушаков опустил веки.
Пермяков ещё раз с усилием повернул винт.
Пациент спокойно глядел в потолок.
Доктор снял с крючка и надел чёрный в ржавых подтёках кожаный фартук. Подойдя к столу, вынул из миски инструмент со сверлом, похожий на коловорот. Ушаков беззвучно зашлёпал губами.
– Пулю? – Пермяков наклонился над Ушаковым. – Помню я про вашу пулю. Рот откройте.
Ушаков открыл рот. Доктор вложил ему между зубов деревянный покусанный брусок.
– Сожмите что есть сил. Оглушать вас из-за вашей раны опасно.
Доктор снял повязку с головы пациента, приставил к его лбу сверло:
– Глаза закройте.
Пациент продолжал смотреть перед собой.
– Закройте глаза, я сказал! – повысил голос Пермяков. – Вы мне мешаете…
Ушаков закрыл глаза.
Доктор покрепче взялся за ручку коловорота и принялся вращать его, надавливая на лоб. Пациент стиснул зубы. Разодрав кожу, сверло с мягким шелестом вошло в лобную кость. Ушаков сжал кулаки. Ремни натянулись. Ручеёк крови побежал по переносице.
– Не дёргайтесь! – предупредил доктор Пермяков. – Если сверло повредит мозг, вам конец.
У Ушакова потекла слюна. Он замычал. Пермяков продолжал вращать сверло. Деревянный брусок выпал изо рта. Мычание переросло в рёв. Кожаный ремень, державший руку пациента, лопнул. Доктор почувствовал, как огромная рука сдавила ему горло. Он выронил инструмент. Кабинет перед ним потемнел, сжался и разгорелся как уголёк. Пермяков хрипел, шарил рукой по столу, пытаясь нащупать анестетический молоток. Он уже думал надавить на сверло, которое торчало из черепа Ушакова, и разом прекратить этот балаган, когда немеющие пальцы нащупали наконец деревянную ручку. Пермяков ударил Ушакова молотком по голове. Хватка ослабла. Высвободившись, Пермяков ударил ещё раз. Схватился за шею, ловя воздух. Поднял молоток для нового удара, но Ушаков не двигался.
Качаясь, Пермяков подошёл к лохани с водой. Умылся.
– Quае ferrum non sanat [31]… – пробормотал.
Приложил ещё мокрые пальцы к шее Ушакова. И снова надавил на сверло, принялся неспешно крутить. Сверло легко вошло внутрь черепа.
Пермяков перестал вращать ручку и бережно вытащил инструмент. Слипшаяся в крови костяная крупа навязла в стальной спирали. Во лбу Ушакова зияло ровное круглое отверстие. Доктор взял смоченную в составе тряпицу, приложил к ране.
Веки пациента дрогнули.
Доктор зажёг лампу, вывернул фитиль до конца. Окровавленное, измождённое лицо Ушакова озарилось светом.
Доктор взял пинцет с острыми лопатками и наклонился к просверленной дыре. Отнял тряпку и осторожно ввёл пинцет в череп. Ушаков застонал.
– Ты ещё жив, братец, – сказал доктор.
Пермяков погрузил пинцет глубже, стараясь нащупать пулю. Кончик пинцета царапнул по металлу. Кровь пошла сильнее. Наконец Пермяков ухватил и извлёк из раны неровный от удара комок свинца.
Пермяков вытер Ушакову лицо, обработал и забинтовал рану. Ушаков открыл глаза и заморгал, глядя в потолок. Пермяков наклонился к нему:
– Слышите меня? Видите? Руки-ноги чувствуете?
Ушаков замычал.
Доктор легко подхватил длинным пинцетом красный комок.
– Держите.
Ушаков