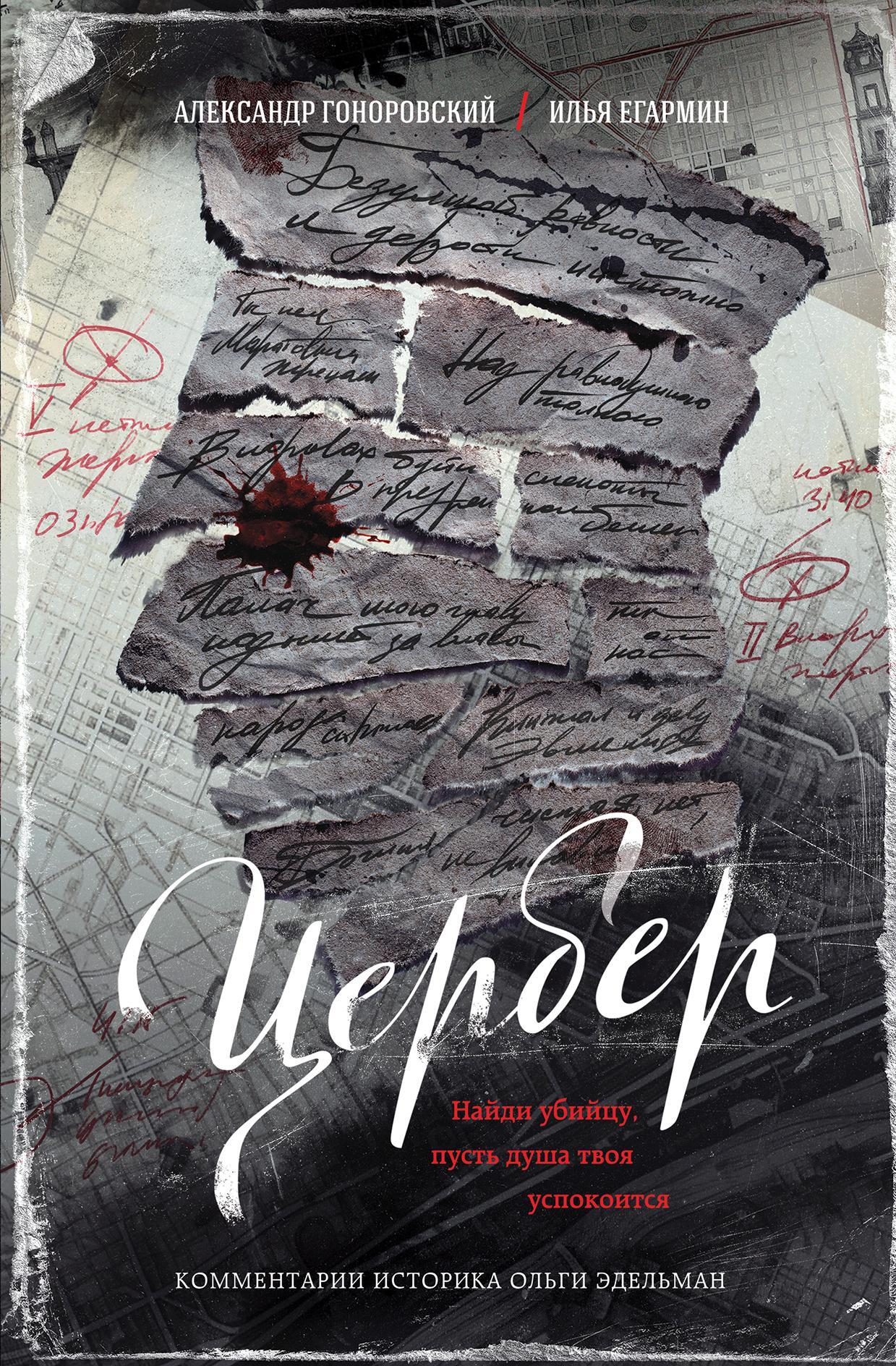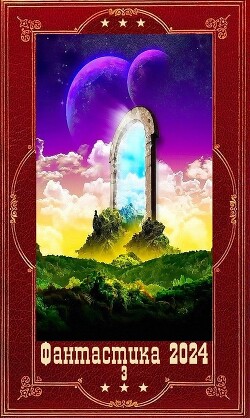взял пулю, с трудом зажал в кулаке.
– Ей-богу, легче медведю зубы драть, – Пермяков ослабил винт и высвободил голову Ушакова из тисков. Отстегнул руку. – Голова болит?
Ушаков опустил и поднял веки.
– Врать не стану, – сказал доктор. – Характер и глубина раны лишь подтверждают скорый паралич.
Ушаков попытался встать.
– Лежите. Всё равно не сможете, – остановил его Пермяков. – Сейчас санитаров позову. Они вас на койку отнесут.
Ушаков с усилием встал. Запустил руку в карман висящего на стуле мундира, вытащил мятые ассигнации. Доктор принял деньги, не считая, положил на стол рядом с инструментами.
Руки Ушакова слушались плохо.
Доктору пришлось помочь ему одеться и застегнуть пуговицы.
Извозчик катил Ушакова по битой мостовой, но тот не чувствовал тряски. Он будто летел над дорогой, не ощущая тела. Лишь пуля тянула карман, не давала подняться в небо.
Странный гул исходил из недостроенного купола Исаакия – то ли ветер, то ли голос. Казалось, всё вокруг ждёт условного сигнала: и запряжённые тройками щегольские экипажи, и люди в лакейских, глядящие в спины своим хозяевам, и театры, и полиция, и Нева.
Ушакову пришло на ум, что они с Исаакием как братья. У обоих купол дыряв. Потом он подумал о Каролине. Было бы совсем некстати, если бы она появилась, когда Ушаков уже вырезал Бошняку глаза. Вышло бы неловко. И всё равно он был рад её приходу и совершенно неуместному маскарадному костюму. «Ботаника спасла Белая дама». Чем не заголовок для статьи? Раньше он искал в газетах описания своих деяний. Но об оставленных им строчках Пушкина в них не было ни слова. А ведь они были очень важны. Они были важны и теперь, когда простые, уложенные в рифму мысли могли наконец овладеть обществом и исцелить государство. А времени на исцеление становилось всё меньше. Со временем всегда так.
Стало темнеть – Ушаков подъезжал к месту своего обитания. Для себя он называл его изнанкой человеческого мира, чтобы хоть как-то оправдать его существование. Даже если Ушаков возвращался домой днём, вокруг становилось темно. Он видел тусклый свет в окнах. Солнце продолжало гореть на чёрном небе фиолетовым глазом. И снова выползали скользкие, похожие на людей твари. Доктор Пермяков утверждал, что это последствие ранения и душевное настроение. Но Ушаков был уверен, что некоторые улицы Санкт-Петербурга живым существам не дано разглядеть.
Бошняка удивила такая плотная темнота. С Невы тянуло холодом. Петербург пытался проснуться к ночной жизни, но у него ничего не вышло.
Послышался нетерпеливый стук в дверь.
Фролка лязгнул замком.
В комнату вбежала раскрасневшаяся Каролина. Шляпка у неё съехала набок. На левой руке не хватало перчатки.
Следом перекошенный от натуги Фролка втащил небольшой дорожный чемодан.
– Разве можно барыне такие тяжести? – кряхтя, сказал он.
– Поди, поди… – не отрывая глаз от Бошняка, ответила Каролина.
Фролка бережно прикрыл за собой дверь.
Каролина стала раздеваться, но пальцы не слушались. Ленты и шнурки не поддавались.
Бошняк подошёл к ней, прижал к стене так сильно, что ткань обоев отпечаталась у неё на щеке. Её волосы щекотали ему лицо. Он поцеловал её родинки за ухом, вдохнул запах лаванды и мыла.
Бошняк любил то мгновение, когда шнурок корсажа ослабевал и женщина из плотно упакованного свёртка становилась тёплой и мягкой. Горячий рот, острые зубы, крепкие, как раковины моллюска, ногти, впившиеся ему в лопатки… Она задышала отрывисто и часто. А он не мог разглядеть лица Каролины и даже не знал, удастся ли его вспомнить.
Почему Витт был одержим этой женщиной? Почему до сих пор сходит по ней с ума? Может быть, эта чужая одержимость тогда, после бала, заставила Бошняка поцеловать Каролину?
На небольшом круглом столе – пистолет, шомпол, пороховница, несколько пуль. Он плохо стрелял и как раз собирался поупражняться, выцеливая окна замерших за каналом домов. На полу валялся ещё не разобранный чемодан, из которого глядело воздушное кружево.
Каролина поцеловала Бошняка в грудь, туда, где белел шрам:
– А вы поправляетесь, Саша. Я счастлива… Я сегодня счастлива.
– Зря вы приехали. Со мной опасно, – сказал Бошняк.
– У меня тоже есть пистолет! – Каролина вскочила и принялась разбрасывать свои вещи. – Я буду охранять вас всю ночь.
Каролина продолжала рыться в вещах.
– Он должен быть где-то здесь, – говорила она. – В ридикюле. Он очень маленький.
Каролина нашла ридикюль на полу.
– Вот! – вытащила она изящный дамский пистолет с рисунком на рукоятке. – Американский. «Дерринджер». Иван Осипович в Одессе подарил. Точный и смертоносный. Если хотите знать, я отличный стрелок.
– Выбросьте его, – сказал Бошняк.
Каролина попыталась понять: шутит он или говорит серьёзно?
Перестала улыбаться, подошла к окну, выбросила пистолет на улицу.
Послушно легла рядом.
Смутно горели масляные лампы. Из-за тёмно-зелёных обоев и плотно закрытых ставень казалось, что в доме плац-майора Аникеева никогда не было ни света, ни воздуха. На стене висели резной мушкет, несколько пистолетов новой системы, сабля и деревянные кандалы. На письменном столе ни пылинки. С портрета сурово глядел пожилой человек в мундире. Если бы плац-майор ещё пожил, то непременно стал бы таким.
– А кто вам, Лавр Петрович, про Аникеева сказал? – спросил первый ищейка.
– Вчера он на службе не объявился. Мне и доложили, – Лавр Петрович почесал живот. – А ведь не отпустили б – был бы живёхонек.
Плац-майор сидел, привалившись к стене, в толстой луже загустевшей крови. Спокойный взгляд его словно висел вдали от затянутого бурой коркой лица, усы от крови заскорузли, торчали иголками. На руках, шее, груди – глубокие рубленые раны.
Правая рука плац-майора была прибита гвоздём к стене. Палец указывал в потолок.
Лавр Петрович и ищейка задрали головы. На потолке виднелось мокрое пятно.
– Жалуется, что крыша течёт, – сказал второй ищейка. – Вот какие дела человека после смерти беспокоят.
– А ежели он выше целит? – спросил Лавр Петрович. – И Божью кару сулит?
– Кому?
– Нам, кому же ещё.
Лавр Петрович, аккуратно переступил через кровь, прошёл в спальню. Первый ищейка последовал за ним.
В спальне висели чистые занавески. На кровати, раскинув руки, лицом вниз лежала женщина.
– Жена… – тихо сказал первый ищейка.
Чепец на голове хозяйки и подушка, в которую уткнулось лицо убитой, пропитались кровью.
– Чего шепчешь? Тут будить некого, – Лавр Петрович расстегнул вросшую в шею пуговицу мундира. – Натоплено, твою мать. Мочи нет, как душно. Кто ж летом топит? Ну чего стоишь? Ставни открой!
Первый ищейка налёг на ставень:
– Заперто.
Прошёл в соседнюю комнату:
– И здесь на замке!
– Боялся кого? – Лавр Петрович заглянул под кровать. Кровь просочилась сквозь матрац, натекла на пол и уже успела засохнуть.
– Лавр Петрович! – послышался из кухни голос второго ищейки.
На кухне лицом к стене скорчилась девушка. Лицо её было разрублено; платье, пол, обои забрызганы мозгом.
– Тошнит? – спросил Лавр Петрович второго ищейку.
Тот кивнул.
– И мне что-то не по себе, – отозвался первый.
– Да, знатная вышла размахайка, – голос Лавра Петровича отдавался в его голове эхом. – Не похоже на аспида.
– Доносчиком-то Аникеев не был, – сказал первый ищейка. – Чую, не Ушакова это