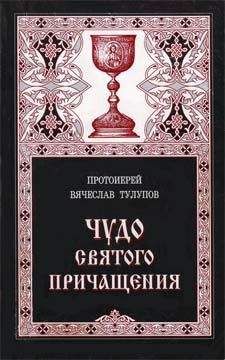Викентий и Молли смутились, поднялись с ковра.
Думанский поспешил оправдаться:
— Да вы меня не так поняли! Я же не в социальном смысле о свободе, а в эстетическом.
— Всё одно! — стоял на своем старик, указывая пальцем вверх. — Там будет свобода, а здесь смирение и послушание.
В комнате воцарилась тишина. Наконец Молли неуверенно произнесла:
— Но, дядюшка, вам ведь понравились новые здания на Невском, на Большой Морской, когда мы гуляли вместе. Помните?
— Помню, милая, отчего же не помнить, — согласился было дядюшка. — Только я о другом. Мало ли что нам нравится — глаз-то нас частенько обманывает! Я о том, что люди похожи на здания, где они живут. Вот, к примеру, на фасаде дома узоры, орнаменты разные, но тот, кто в нем проживает, и не подозревает, что душа его подчинена этим знакам. Знаки эти тоже ведь живут своей неведомой жизнью, но тайны свои не открывают, а человек, к примеру, заболеет, потому что орнамент ему не подходит. Но может и разбогатеть. А то возьмет да и убьет кого-нибудь! Нужно внимать, «вникать» — внимайте себе и всему вокруг и поймете, что всё — символ. Человек относится к своему телу так, как его дом относится к нему самому. И то и другое — суть сосуды нашего бытия, как говорят разные там философы, — форма. Впрочем, милые, это я так, к слову, — всё прах и тлен, шуршание звуков и копошение вещей. Знаешь, племянница, мне ведь уже в дорогу пора, дома заждались, да и загостился я здесь. А собираться мне недолго — возьму с собой тряпьишко кое-какое, пару книг да рукописание… Этой ночью поезд; я уж и билет купил.
Молли мгновенно опечалилась — она была совсем не готова к очередному грустному известию.
— Ну почему же так неожиданно, так скоро, милый дядюшка? Чем вам не нравится мой дом? Да и разве вам к спеху — Святые дни вот-вот пройдут, а мы с Викентием собрались пригласить вас в Михайловский театр. Нет, я совсем не хочу, чтобы вы уезжали.
— И правда, будут давать французскую оперетту, — добавил Думанский. — Признаться, я уже абонировал отдельную ложу в бенуаре.
Инвалид был неумолим:
— Спасибо вам, детки, за все, и грех мне на что обижаться. Душно мне в столице, право, невмочь уже, так что не взыщите со старика и помолитесь иногда о спасении моей грешной души. А у тебя, Машенька, теперь совсем другая жизнь будет — все новое. Всему свое время: «Нам время тлеть, а вам цвести».[46]
Молли стало понятно, что дальше возражать бесполезно. Только Викентий Алексеевич с интересом спросил:
— Неужели вы так сразу и уедете — на такой печальной ноте, не приподняв таинственной завесы, скрывающей от всех ваше творчество, не рассказав нам ничего о своих мемуарах? Молли мне как-то говорила, что вы пишете.
— Да, я здесь и вправду немного потрудился. Накропал одну новеллу.
— Новеллу?! Подумать только! Наверняка и об архитектуре в ней не забыли? — не отставал любопытный Думанский.
— Предмет, безусловно, стоит сочинения о нем, да не о всем, любезный, можно писать: напишет что-нибудь иной сочинитель, а оно, это вот самое, глядишь, с ним и произойдет. Сочинительство — дело тонкое. Впрочем, я-то как раз написал бы и об архитектуре, но сейчас не о ней.
— А о чем же?
— О судьбе, милейший, о судьбе. Все, что пишут о судьбе, — в некотором роде мемуары. Есть большая история, а есть судьба человеческая. Вот не мог раньше писать о своих переживаниях — это для меня роскошь. Это удел очень сильных людей, а я духом нищ. Собирал чужие эмоции, как мозаику, а своих чувств раскрыть не мог — боялся: вдруг скажешь не то или сделаешь… Судьба-с! О ней пишу. Пришлось недавно современную войну воочию наблюдать, а теперь вспоминаю: дерзнул описать самое любопытное из того, чему был свидетелем… Не читал никому, потому что тогда еще ничего не закончил, и мысли были как необработанные минералы. Раньше времени читать никак нельзя: я не чужого сглаза боюсь — своего. Не надо детище свое показывать неготовым, беззащитным. Как вы думаете?
— Пожалуй. Хотя мне сложно рассуждать — я ничего не писал, кроме судебных речей, и никогда не задумывался, символичны ли они. Чаще — насколько содержательны… А стихи вы не сочиняете?
— Случается! — вздохнул дядюшка, и было видно, что ему приятно отвечать на заданный вопрос. — Иногда так ритмом увлекусь, что мир вокруг уже вроде и не существует. А то бывает, читаю стихи как прозу, и выходит такое, как если вылить воду из графина на стол: форма исчезает, содержание расплывается, становится плоским и пошлым… Есть грех — что скрывать!
— Так вы уж почитайте нам напоследок хоть что-нибудь, если не устали. Может быть, из новеллы? Ну пожалуйста! — оживилась заинтригованная Молли. — Ну, дядюшка!
Инвалид отрицательно покачал головой:
— И не проси, Машенька! Тяжко мне читать — душа сейчас не лежит, да и слабеть я стал что-то. Да и поторопиться бы нужно — домой пора.
— Вот и чудесно! — нашелся Думанский. — Я сам вас и отвезу на вокзал — меня ждет авто. В нужный час доставлю к поезду, будьте уверены. А пока проявите снисхождение к нашему любопытству — почитайте хоть что-нибудь.
Старик загадочно улыбнулся, задорно потеребил тремя пальцами кончик носа и… сдался:
— Ну уговорили, уговорили! Разве откажешь вам, детки? Это только часть начатой мной новеллы «Бессмертие ради любви». Вот какое название завернул — воистину седина в бороду…
Он взял рукопись, на минуту закрыл глаза, внутренне настраиваясь на неведомую никому душевную волну; глубокомысленно помолчав, приступил наконец к чтению. Даже голос у него изменился — стал какой-то молодой, звонкий.
Поручик Асанов, ротный командир, давно присматривался к этому крепкому солдату из вольноопределяющихся, с аккуратно подстриженной щеточкой черных усов над крупными, похожими на каленый миндаль зубами. С лица его никогда не сходила скептическая улыбка, а прическа всегда имела подчеркнуто аккуратный вид и нарочито выраженный косой пробор. В глазах таилась глубина мысли, и за всем обликом чувствовалась какая-то оригинальная, присущая только ему жизненная позиция. Будучи рядовым, он, однако, совсем не был похож на простого русского мужика, которого мобилизация вырядила в белую полевую косоворотку, налепила на широкие плечи алые погоны с набитыми через трафарет номерами части, туго перетянула свиной кожи ремнем заметный округлый живот и доставила сюда, на край света, вырвав из размеренной, привычной крестьянской жизни, состоящей из многочасовой работы да однообразного сумбурного отдыха по воскресеньям с положенным утренним посещением церкви и обязательным вечерним возлиянием, после которого у всей Богоносной России наутро болит голова и ноют ноги.
Петр Смирнов — так звали вольноопределяющегося — имел спортивное сложение, явно сформированное комплексом упражнений из новомодных руководств по какой-нибудь восточной борьбе или боксу. Ботинок с обмотками, как положено солдату, он не носил, предпочитая им щегольские сапоги офицерского покроя; в постоянную маньчжурскую жару умудрялся следить за собой так, что всегда был гладко выбрит и постоянно источал запах дорогого одеколона. Можно было подумать, что поблизости, в какой-нибудь фанзе,[47] его ожидает загадочная дама сердца. Асановскому воображению представлялась миниатюрная изящная китаянка с кожей цвета мандарина, обжигающим страстно-любопытным взглядом, закутанная в атласный халатик с причудливыми ориентальными узорами или искусно вышитыми пучеглазыми, извивающимися драконами.
Для себя Асанов придумал Смирнову прозвище — «замочек с секретом». «Ничего себе солдатик, — размышлял поручик. — Ему бы на Кавказ лет этак семьдесят назад, на Линию, на Валерик. Явно печоринский тип, хотя тогда скорее сказали бы — байронический. А все-таки печоринский — почвеннее, лучше. Как там, в романе? Кажется, что-то вроде: „Есть этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться необыкновенные вещи“. Ну, это понятно: раз вольноопределяющийся, значит, как минимум, образован и в то же время в армию угодил по каким-то особенным обстоятельствам. Независим и горд, это видно сразу, смел отчаянно. Начитался, наверное, модной зауми. В Бога не верует — это уж точно! Скорее в Его противоположность».
Однажды, когда полк был на марше — после очередной кровавой стычки с японцами, стоившей жизни не одному десятку хороших солдат, — оставшиеся в живых тащились, понуря головы, по знойной степи, и каждый думал о том, что, возможно, догоняет свою собственную гибель… Асанов услышал вдруг одинокий звонкий голос, запевающий народную песню:
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
У самого поручика тяжело было на сердце, а тут еще кто-то бередил душу — да ладно бы себе одному, а то ведь всей роте: солдаты уверенно и даже с каким-то отчаянием людей обреченных подхватили вдруг хором. Звучала широко, по-русски, песня о невыносимой кручине, изводящей молодецкое сердце, тоскующее по оставленной где-то далеко милой, но вдруг, в конце второго куплета, оборвалось стройное пение, не выдержали напряжения мучимые тоской души, и только один, все тот же пронзительный, чувственный голос продолжал: