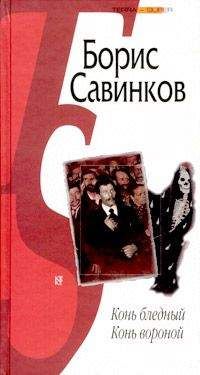Ошеломленный, я узнал, что Крымов был не Крымов, а князь Щенятев, что он скрывался под чужой фамилией ; после того, как играл руководящую роль в большом восстании в Центральной России, и был случайно опознан в угрозыске агентом, бывшим во время этого восстания красногвардейцем в городском гарнизоне. Я ни о чем больше не расспрашивал моего знакомого. Я пришел домой, и моей первой мыслью было — сделать петлю и повеситься на крюке от люстры, благо Тани не было дома. Но едва я снял веревку со старой корзины и связал петлю, Таня вернулась. Она поняла по моему виду, что случилось что-то непоправимое, схватила меня за руку и, смотря в глаза, властно приказала: «Говори правду». Я не мог солгать. Я сказал. Я ждал, что она закричит, упадет в припадке. Но она только пошатнулась, закусила губы и тихо сказала: «Я это знала».
После этого она ушла в свою комнату и заперлась. Я стучал, умолял, просил, требовал открыть дверь. Она ответила тихо, но так, что я похолодел от пустоты и мучительности этого голоса: «Папа, оставь меня. Я даю тебе слово, что ничего с собой не сделаю, но мне нужен покой». Я отошел от двери, как побитая собака, и несколько часов просидел в углу без мыслей, недвижимо, с ужасом и надеждой прислушиваясь к каждому шороху из ее комнаты. Перед вечером она вышла, спокойная, ясная, с чуть припухшими глазами, прошлась по мастерской и спросила меня совсем спокойно, но чрезмерно звонким и холодным голосом: «Папа, ты будешь сегодня работать?» Я не мог, я не хотел, я не имел больше права работать. В каждом штрихе угля была моя собственная казнь. Но я согласился потому, что видел, что для нее это необходимо. Уголь скрипел по бумаге, как нож гильотины по позвонкам казнимого, упавший карандаш потряс меня своим стуком, как ружейный залп. Руки у меня тряслись, но я делал вид, что работаю. Вечером я говорил с Таней. Я пытался обелить себя и успокоить ее. Я сказал, что давно подозревал о ее любви к Крымову, что остерегался вмешиваться, что случившееся ужасно, но вместе с тем лучше, что Таня не связала еще окончательно свою судьбу с человеком, который скрывал свое прошлое, — и мои слова хлестали меня же, как раскаленные шомпола.
Она . слушала молча, неподвижно, тихая, закаменевшая. Так прошло два дня. На третий она встала на обычное место к окну, и, увидев в ее фигуре, во всем облике знакомое, дошедшее до предела пленительное выражение обреченной тоски, я забылся в припадке работы. Никогда в ней не было такой зрелой ясности и красоты, как в этот вечер. Когда я положил угли, она подошла и поцеловала меня в лоб. Я готов был упасть на колени и сознаться ей во всем, но она быстро ушла к себе в комнату, а оттуда вышла на улицу. Я слыхал, как хлопнула входная дверь и инстинктивно подошел к окну, как тогда. И тотчас же я увидел ее легкую фигурку в синем жакетике и фетровой шляпке. Но она не летела с легкостью птицы, а медленно шла, покачиваясь, словно несла на плечах непосильную ношу.
Я смотрел на нее, и слезы текли по моим щекам. Она дошла до решетки канала, остановилась и стояла так, склонив голову, минут десять, Потом повернулась к окнам нашей квартиры, прижала руки к груди, быстро перекрестилась и, одним прыжком вскочив на решетку, рухнула в воду, Когда я, сломя голову, летя через ступеньки, добежал до канала, по маслу гнилой воды еще дрожали круги и сбегались кричащие люди. Ее не нашли, видно, тело сразу ушло под затонувшую баржу.
Вытащили ее через несколько месяцев, когда от нее ничего не осталось, кроме груды разложившегося мяса...
Шамурин затряс головой и замолчал. Потом вскочил и, протянув руки, зашептал пронзительно и страшно:
— Убийца. Я двойной убийца... нет пощады... нет прощения. Мне страшно жить, мне страшно умирать, потому что я верю в другой мир. Что я отвечу там, когда меня спросят. «Алексей. Что сделал ты со своей плотью и кровью? Что совершил ты со своим ребенком? 3а что?» Что я отвечу? Что пожертвовал жизнью чада моего для искусства? Да? Что значит все искусство вселенной перед убийством безвинного ребенка? Что. есть истина? Отвечайте мне, Пилат!
Он был страшен, всклокоченный, безумный, с мучительной гримасой, с одичалыми глазами. Кудрин подошел к нему и положил руку ему на плечо.
— Спокойно, — сказал он приказывающе. — Я не Пилат. Я не судья! Я сейчас только человек и художник. Перестаньте! Вам нужно выпить не водки, а воды, — добавил он, увидев, что Шамурин прыгающей рукой тянется к бутылке. — Водки я вам больше не дам, И больше ничего не говорите. Сейчас вы ляжете у меня спать и никуда не пойдете. Вы больны!
Шамурин вырвался:
— Не троньте меня. Не прикасайтесь... Лечь спать? У вас? Нет дома, который я не осквернил бы своим присутствием. Даже ваш дом. Дом человека, не верящего ни во что, кроме кулачного права... Нет!.. .. нет... Я не могу, я не должен вас оскорблять. Простите... простите!
Он рванулся вперед и, схватив руку Кудрина, прижался к ней губами. Кожей кисти Кудрин ощутил щекочущий волос усов и теплую мокроту слез. Его передернуло, он вырвал руку и отскочил к стене с перекосившимся лицом. Шамурин заметил его судорогу и весь осунулся.
— Да... конечно... я противен. Вас тошнит от моего прикосновения. Весь мир содрогается, соприкасаясь со мной. Я знаю... Я не останусь у вас ни секунды.
Прежде чем Кудрин мог остановить его, Шамурин выбежал из комнаты. Сильно хлопнула входная дверь. Кудрин бросился вдогонку. Но старик бежал с невероятной для его возраста быстротой. Шаги его стучали уже глубоко внизу в пролете.
— Стойте! — крикнул Кудрин. — Гражданин Шамурин! Вернитесь!
Но шаги смолкли внизу. Кудрин медленно вернулся в комнату. Все происшедшее показалось ему сном.
Только лежащая на столе гравюра была реальна и напоминала о реальном. Обреченное мертвое лицо смотрело на него в муке безысходного отчаяния. Кудрин вздрогнул и поспешно поставил картон лицевой стороной к стене.
Заснуть в эту ночь не удалось. Едва веки смыкались в дремоте, откуда-то из ночной темноты выплывали странные тени, и виделось: то воспаленные глаза Шамурина и дрожащий мускул на его щеке, то лицо замученной безумным отцом девушки, то черная вода канала с лопающимися па ней пузырями гнили.
Проворочавшись до рассвета на диване, Кудрин поднялся разбитый и вялый. Болела голова, ныло все тело и моментами наплывал легкий озноб. Кудрин достал из стола термометр. Термометр после пяти минут показал тридцать семь и шесть.
«Простудился», — подумал Кудрин, укладывая стеклянную трубочку в футляр.
Он вспомнил, что, идя от станции к заводу, неосторожно распахнул пальто, а вечер, хотя и обманчиво теплый, дышал лихорадочной сыростью.
«Придется денек пересидеть дома, — подумалось Кудрину, — а то совсем расклеюсь».
Он позвонил в трест и вызвал Половцева.
— Александр Александрович, будьте добры, поработайте малость за меня. Я немного прохватился ветерком и кисну. Так уж надеюсь на вашу любезность,
— Может, вам врача направить? — спросил Половцев.
— Да нет, ничего серьезного. Просто лихорадит. Приму хины, разотрусь водкой, и все как рукой снимет.
— Позвольте вас навестить вечерком? — продолжал Половцев.
Кудрин помолчал секунду. Видеть Половцева не хотелось, и нужно было сказать об этом прямо, но деликатно, чтобы не обидеть профессора. И Кудрин сказал наконец извиняющимся тоном:
— Лучше не надо, Александр Александрович. Мне что-то хочется, хоть один день отдохнуть от людей.
— Понимаю, — ответил Половцев, и в ответе профессора Кудрин уловил ту же скрытую иронию, которая раздражала его в последние дни. Он быстро положил трубку и, достав из шкафа одеяло, прилег на диван.
Он надеялся заснуть, но сон не шел. Мелкий озноб щекотал тело и не давал успокоиться. И нахлынули мысли. Вспомнился Шамурин с его рассказом: палач и жертва своего фанатического безумия.
Безумие ли?
Кудрин приподнял подушку за спиной и остался в таком положении — полулежа-полусиди.
Безумие ли? Да, конечно, безумие, но в нем была и своя жестокая, мрачная прямолинейная логика. Шамурин упрямо и неуклонно шел по своей линии, без компромиссов и отступлений. Своя и чужая жизнь в жертву делу, в жертву идее искусства.
Несчастный старик!
Кудрин мотал головой, как будто хотел подтвердить свой вывод. А может быть, счастливый художник, — художник, оправдавший свое бытие, Кудрину вспомнился миф о гениальном художнике Эллады, приковавшем своего раба-натурщика к камню. Чтобы вникнуть и передать на полотно искаженные черты огненосца Прометея, художник привязывал к животу натурщика кусок сырого мяса. Голодный орел клевал мясо и вместе с ним рвал клювом мускулы и кожу живого человека. А художник, холодно и зорко наблюдая, запечатлевал каждую судорогу муки и боли на лице и теле натурщика.
А средневековье. Колоссальные полотна с мучениями святых. Христианство возвело эти мучения в догмат жизни и искусства. И, подчиняясь требованиям класса и эпохи, художники творили мучительные вещи. Был художник, который для полотна Голгофы распинал на кресте собственного сына и запоминал формы готовых взорваться от напряжения мускулов. Другой сидел с карандашом в углу инквизиторского застенка и зарисовывал пытки. Верещагин появлялся на полях боев, когда над ними еще плавала кислая мгла порохового дыма и корчились тела умирающих.