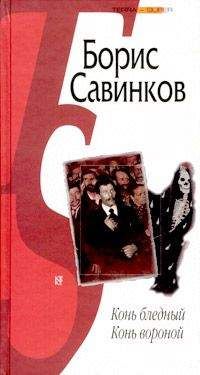А средневековье. Колоссальные полотна с мучениями святых. Христианство возвело эти мучения в догмат жизни и искусства. И, подчиняясь требованиям класса и эпохи, художники творили мучительные вещи. Был художник, который для полотна Голгофы распинал на кресте собственного сына и запоминал формы готовых взорваться от напряжения мускулов. Другой сидел с карандашом в углу инквизиторского застенка и зарисовывал пытки. Верещагин появлялся на полях боев, когда над ними еще плавала кислая мгла порохового дыма и корчились тела умирающих.
Кудрин с испугом вытер проступивший на лбу пот. «Что же это? Я оправдываю преступление ради искусства?» — подумалось ему.
Нет. Жестокие легенды всплыли в памяти не для этого.
Они были закономерны и диалектически объяснимы для своего времени. Для мрачного, черного времени угнетения и насилия.
Кудрин усмехнулся. Мысль его ухватилась за тоненький кончик ниточки, на мгновение мелькнувший из спутанного клубка, и, ухватившись, начала спокойно развертывать нить.
Да, ясно. Задача художника в социалистическом обществе иная. Он должен не обескрыливать и душить человека зрелищем страданий и мук, но будить радость, здоровье, надежду, говорить полнокровным голосом искусства для освобожденного человечества. Но эту задачу может осуществлять только художник, рожденный классом. создающим новую эру в человеческой истории.
Только плоть от плоти победившего впервые класса бывших рабов. Только он сумеет заметить и передать со всей силой и искренностью новые темы. Чужой, даже и дружелюбный чужой, просто не сможет понять.
Все чудовищные потуги, ужасающе размалеванные тряпки «красных похорон» и «красных октябрин» безнадежны не потому, что они делаются тупыми ремесленниками, без вдохновения, без любви. Нет, среди их авторов есть имена, заслуженно вошедшие в историю искусства. Но при всем старании они не в силах, они не могут понять новой сути изображаемого.
Они корнями вросли в психологию отмершего мира. Волею рождения в недрах чуждого революции класса они обречены на непонимание, на невозможность революционного познания и потому на трагическое бесплодие.
Понять, отразить до конца обреченность своего класса, своего общества способен был полубезумный маньяк Шамурин, сам продукт этого общества, квинтэссенция его разложения. Понять будущий расцвет нового общества, его здоровую жажду жизни и здоровые радости может только порожденный классом-победителем, перемоловший старую и воспитавшийся на новой культуре, здоровый художник со здоровым коммунистическим мышлением.
Вот именно.
Кудрин вскочил с дивана и, как бы зараженный внезапным и бодрящим током, заходил по кабинету.
Стены кабинета незаметно растаяли, раздвинулись. Сквозь них Кудрин видел, как наяву, бесконечную галерею накопленных веками сокровищ мирового искусства. Где-то в бесконечном далеке, на желтых обрывах песчаников, смутно виднелись первые попытки мышления художественными образами. Кремневым резцом, цветной глиной, копотью первобытный художник запечатлевал бытие своего общества. Постепенно, шаг за шагом, век за веком, улучшались и усложнялись материалы, искусство захватывало все более широкие перспективы.
И, как бы бредя в гигантском музее, Кудрин внезапно понял еще одно.
В каждую эпоху искусство было кровными связями слито с политическими и социальными формами человеческого бытия. Слабое, неуклюжее и блуждающее вслепую на переломах эпох, оно неуклонно возрастало в своей ценности и полнокровности параллельно с укреплением новых социальных форм и, достигнув величайшего расцвета на вершине эпохи, низвергалось вместе с падением породившего его общества.
Искусство вырастало органически из комплекса идей и понятий эпохи, оно не терпело никаких понудительных и ускорительных мер в своем закономерном и правильном росте.
Кудрин усмехнулся:
«Да, да! Конечно, так! У нас все еще впереди, впереди, и мы напрасно «и жить торопимся и чувствовать спешим». Десять лет? Что такое десять лет для хода истории, ведущей счет тысячами веков? Мы — дети, грудные дети, мы еще едва открываем глаза, И, еще не раскрывши, хотим уже видеть свое искусство в полном расцвете. И стремимся взрастить его, как тепличный огурец, паром и жаром, поскорее, побольше, забывая, что в парниковом плоде безвкусная, пресная вода, что он противоестествен, так же противоестествен, как ретортный гомункулус алхимиков».
Кудрину вспомнился Рубенс. Бешеный фламандец, плотоядный обжора, каждым мазком кисти утверждавший коренастое благополучие ядреных голландских торгашей, властелинов морей, колонизаторов. Рубенс вошел в свою эпоху, в эпоху блеска и торжества нарождавшегося могущества голландского капитала, в тот момент, когда оно пришло к своей кульминационной точке. Впереди уже нависали грозовые тучи. Адмиральский флаг Нидерландов еще гордо развевался на ближних и дальних морях, но уже одевались парусами трехъярусные громады английских кораблей, чтобы через полвека, в решительных боях с прославленным Рюйтером, раздавить голландское могущество.
Рубенс был плоть от плоти своего века. Его полотна кричали буйством красок и форм о торжестве наживы, стяжания бычачьего сластолюбия. Он писал тела так, что их хотелось схватить и ощупать пальцами мясистые, налитые округлости. Его живопись была гимном практического торгаша, верящего только в реальную выгоду, привыкшего ощупывать и мерить приобретаемый товар.
Но эта кричащая мощность и пышность, прославляющая мощность и пышность тучной Голландии, была обращена в Рубенсе не искусственными теоретическими настроениями, — она вырастала из самых глубин его сознания, она ощущалась художником не как результат предвзятого логического хода, но как естественный выход творческой силы, порожденной и питаемой окружающим расцветом.
И Кудрин отчетливо сознавал, что Рубенс, выписывая своих тучных богов и богинь, никогда не думал, что взмахи его кисти должны содействовать росту и мировому внедрению голландского торгового капитала. Вернее всего, что художник никогда и не задавался вопросом, чему служит его творческий дар, — настолько органично и непосредственно было его восприятие окружающего быта и общества, вошедшее в его кровь с молоком матери. Он был нормальным продуктом своего общества и своего класса и его пропагандистом по крови.
Социальная революция, делу которой отдал свою жизнь Кудрин, сломала и разрушила сгнившие общественные формы и строила новые. Со срывами, с ошибками, с отступлениями она воздвигала новое здание.
И наряду с государственным и общественным строительством медленно нарождалось и новое искусство. Как на переломе каждой эпохи, первые его шаги были топорными, неуклюжими и слепыми. Оно было еще оторвано от общего роста и шло без связи с остальным.
В эти годы трудной, изнурительной, воловьей работы Кудрину казалось, что он поступает правильно, отрекаясь от искусства для будничной, тяжелой, но первоочередной хозяйственной работы.. Он успокаивал себя тем, что нельзя объять необъятное. Он занят был делом, которое сейчас важнее для строящегося государства. Если делить время между искусством и . экономикой от этого пострадает тот существенно важный в народном хозяйстве промышленный организм, который вверен его наблюдению. Нужно было сосредоточить все силы в одной области, а не дилетантствовать понемногу во всех.
Но теперь, после всего пережитого и перечувствованного за последние дни, он начал понимать, что в его логических построениях есть пробел.
Ему было ясно, что ни в какой стройке не может быть такого положения, при котором отдельные камни здания существовали бы сами по себе, не связанные другими. Искусство было так же неотделимо от хозяйства, как и наука. Трест выбрасывал свою продукцию — посуду, статуэтки, стекло — не в безвоздушное пространство, а на реальный рынок, на миллионного потребителя.
И для этого потребителя нужно было создавать и новое художественное оформление выпускаемых изделий, знать перемену и рост художественных вкусов и требований, иначе вся работа творилась впустую, на какого-то неживого, теоретического потребителя, не существующего в природе.
Кудрин остановился посреди кабинета.
«В сущности говоря, ведь это же дико, — подумал он, — ведь мы в действительности не знаем, на кого и мы работаем, какой вкус у нашего покупателя, какое искусство ему нужно? Да больше того — нам нечего ждать, пока он нам откроет истины, мы сами должны их открыть».
Внезапно ему вспомнилась поданная угрюмым комсомольцем ядовитая записка, и он смутился.
«Открыть? А что мы можем открыть, когда наши дети уже перерастают нас в вопросах культуры и искусства. В громе военных гроз, а после — в будничном щелкании счетов мы, старшее поколение, оторвались от культуры, просто упустили ее из виду и, рассчитывал, прикидывая на счетах, лепя кирпичи, отливая балки и формы, пытаемся строить мирный дом, забыв, что под ним нет фундамента культуры. И в новых культурных требованиях никто из нас толком не смыслит и, сталкиваясь с ними, или становится в тупик, или легкомысленно хлестаковствует».