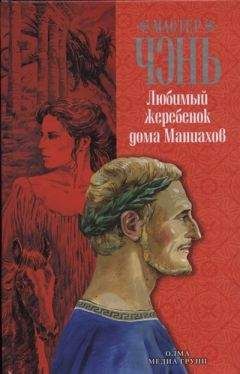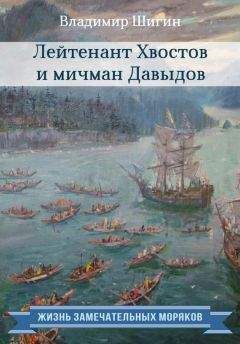Феоктистос, конечно, знает, что меня сейчас встретят не арабийя из Куфы, а хорасанцы в черном — солдаты Абу Муслима. Он знает, что этот человек уничтожил бы меня с великой радостью, и не очень быстро. Феоктистос также знает, кто я такой, и еще — что мне очень хочется вернуться. И, значит, он надеется…
Что вот сейчас я подумаю: а ведь я однажды уже имел дело с «хорасанским барсом». И дело это кончилось для него плохо. Он теперь подсылает ко мне убийц — даже в город Константина… Но, во-первых, это еще неизвестно — он ли сам, или еще один очень интересный человечек, его друг и исполнитель тайных дел. А во-вторых, тайно подсылать убийц — это одно, а увидеть, как тот самый Ястреб спокойно переезжает границу и едет в твой лагерь… Хочется узнать, зачем Ястреб это делает, и почему он опять, опять не боится. И кроме того… ведь я однажды уже принес ему крупные неприятности.
И кто кого в таком случае должен бояться?
А ведь он трус, этот бывший раб Абу Муслим.
Ну, а дальше, наверняка думал Феоктистос, я найду, что сказать Абу Муслиму. Потому что очень хочу вернуться.
И ведь найду. Еще есть время подумать об этом.
А как было бы хорошо вместо этого уехать… ну, не в Кукуз, раз уж он больше не принадлежит империи. А вот, скажем, в город Филиппополис во Фракии — вроде бы есть такой. И продавать там жареные колбаски.
Я захохотал в голос. Чир недовольно прянул ушами, я бросил взгляд на эти уши… а потом на пару шагов вперед.
Перегораживая мне дорогу, там стояли четверо пеших солдат в черном.
Хорасанцы, конечно.
Борясь с остатками смеха, я приложил руку ко лбу и сердцу. Можно представить себе, что подумала эта четверка, увидев перед собой странное зрелище: человек в синей, отделанной золотом римской тунике, как положено — с поясом, с висящим на нем кинжалом, с римской чуть завитой прической и, соответственно, без всяких головных повязок… и при этом с явно согдийским лицом. Человек этот, вдобавок, сидит на вороном жеребце ровно на границе между двумя воюющими странами, и идиотски смеется без всякой причины.
— Ястреб, — сказал я, указывая себе на грудь. — Мне нужен Абу Муслим.
Эти люди наверняка говорили на иранском, а раз они хорасанцы — то, может, и на согдийском. Но общаться со мной они долго не собирались. Один крикнул, пара всадников выехала из-за скалы.
И — рысью по ущелью, среди мелькающих веток, вдоль журчащего ручья. Легкий ветер в лицо — потому что сегодня и сейчас я жив.
И — это действительно оказалось близко — долина, плавные темные холмы, багровый закат, синие дымы множества солдатских костров на этих холмах.
Себе под нос, никому не слышным бормотанием:
— С возвращением в империю потомков пророка, Ястреб.
А потом, совсем уже тихо, та самая пара слов маленькому человечку с сильными руками и острыми зубками:
— Пошел вон.
— Ну, наконец-то, дорогой Ястреб, — сказал мне молодой человек с темной, торчащей вперед бородкой и с носом, похожим на боевой топор.
Ах, какой у него голос. Мягкий, бархатный, неторопливый.
— Халид, — проговорил я в изумлении. — Халид ибн Бармак.
Никакого Абу Муслима. Совсем другой человек из Мерва. С одной стороны, вроде как подчиненный Абу Муслима, а с другой… Империя халифа — сложная конструкция, подумал я, да и другие империи не проще.
Дальше было хорошо. Я полулежал на целой груде шелковых подушек, которые вне всякого сомнения следовало потом выбросить — после дорожной пыли, которую я на них наверняка оставлял в этот момент. Наследник трона древнего Балха, мой брат по крови и старый знакомый, неспешно обсуждал со мной вина, и остановились мы на золотом, непременно холодном (Халид удивленно пожал плечами: а как же иначе?), из долины Шираза.
Я прикасался губами к вину, чьи создатели сделали его весело-кислым и одновременно ласкавшим язык обещанием сладости, и вспоминал, как же я боялся этого человека каких-то два года назад.
Он поначалу лишь кланялся мне издалека, я видел, как мимо едет любезный красавец, с этим потрясающим носом, с кольцами завитых волос, лежащими на спине — и боялся.
Это были страшные, как я сейчас понимаю, месяцы в старой крепости Мерва, когда друзья и покровители оказывались беспощадными врагами, когда кинжалы таились в каждой складке каждого плаща — но я, впервые столкнувшийся тогда с миром заговоров и глухой тайной ненависти, боялся только одного человека. Вот этого. Потому что — слишком хорош, слишком красив, идеальный воин. Такого просто не могло быть.
История моей странной дружбы с «мервским барсом», юным Абу Муслимом, кончилась, как уже сказано, очень плохо.
И вот остается только бегство, с горсткой моей личной гвардии мы покидаем Мерв, мы еле тащимся, потому что измученный седобородый Бармак, щедрый, неугомонный на рассказы и истории бывший властитель Балха, не может ехать быстрее. И мы ползем неуверенной кавалькадой по притихшим улицам мимо глухих выбеленных стен домов, я оборачиваюсь — зная, что нас не могут не нагнать.
Однако нас не нагнали, нам перегородили дорогу. И когда предводитель этих людей выехал вперед, и я увидел вот этот профиль с носом в виде топора, я понял, что боялся не зря. Самое страшное пришло.
Но…
«Это же мой сынишка Халид», укорил меня мой царственный подопечный с высоты своего верблюда. «Халид ибн Бармак».
Старого Бармака я с тех пор видел неоднократно. Двор нового халифа, человека, который кашлял, управлялся на самом деле братом халифа, по кличке Мансур. А за Мансуром стоял наставник его сына, Бармак, царь по крови и по уму, глава дома Бармаков. Кто-то, конечно, числился эмиром всех тайных дел империи халифа. Бармак был слишком велик, и слишком стар, чтобы подменять этого тайного эмира в его повседневных делах. Зато он мог одним движением мизинца поменять его на кого-то другого.
Если, конечно, старый Бармак еще жив.
А Халид… насколько я знал, он так и остался в Хорасане, в Мерве, присматривать за Абу Муслимом. «Он у нас там по денежной части», объяснил мне, помнится, Бармак.
Мы с ним ни разу не говорили, вспомнил я. Этот бархатный голос я слышу впервые. Но знаем друг друга очень хорошо, и не только в лицо.
И вот теперь этот красавец привёл немалую армию к границам ромэйской империи, а я, в самом центре этой армии, лежал на его подушках.
И я наблюдал в его глазах что-то странное. Озабоченность, чуть не страх? Не может быть. Почему он следит за движением моей руки с чашей, за выражением моего лица?
И тут я чуть не засмеялся. Нам обоим вне всякого сомнения предстояла война — большая или маленькая, и много прочих неприятностей, но человек царской крови — это все-таки человек царской крови. Он был сейчас моим хозяином, он был человеком моего мира и моего круга. Да еще и моложе. Война могла подождать. Его безмерно волновало в этот момент лишь одно: как Маниах из дома Маниахов оценит вино.
Я постарался изобразить на лице что-то вроде пробуждения: усталый путник вдруг начинает понимать, что на языке — нечто, его достойное.
И Халид заметно расслабился.
— Отличный был выбор, — вежливо сказал мне он, медленно опуская чашу с вином — я засмотрелся на шелк его рукава, черный с темно-зеленым и золотым узором.
— Как отец? Я был бы рад увидеть его вновь и вновь, — осторожно спросил я.
— Отец? На удивление, — улыбнулся он. — Очень стар, надо признать. Слаб. Но мы живем в тихие времена. Никаких больше походов и караванов. Пока… пока халиф здоров.
Я поднял на него глаза: назвать «Проливающего» — Ас-Саффаха — здоровым мог разве что совсем посторонний для двора в Куфе человек. Значит… Значит, мне сообщили что-то важное. Что повелитель правоверных жив исключительно «пока».
— Дорогой мой Халид, — вздохнул я. — Если в главном все хорошо, то нельзя ли узнать, что это за странный способ меня приветствовать — «наконец-то». Что бы это значило?
— Но я же послал троих… — сказал он, потом нахмурился и остановился.
— Я, к сожалению, приехал не совсем по их приглашению, и эти трое, боюсь, не вернутся, — ответил я, и быстро пересказал всю историю целиком.
Дальше были расспросы и много подробностей, после которых Халид, явно потрясенный, налил себе еще вина и выпил его большим глотком.
— Халид, поверни войска и уходи, — сказал ему я. — Поверь, что эта история — не для тебя. С таким еще никто не сталкивался. Слишком страшно. Ты в этом мире можешь стать кем угодно. Править любой страной. И было бы обидно, если…
Наступила тишина. Ткань палатки перестала светиться розовым, солнце ушло за какую-то вершину. Принесли лампы.
— Спасибо тебе, Маниах из дома Маниахов, — сказал он наконец. — Но это мне сейчас вряд ли удастся. У меня нет больше той тысячи всадников, что ты помнишь. У меня их теперь несколько побольше. Я бы и рад обойтись прежним отрядом, но — ты же знаешь, где я остаюсь и кто там хозяин. Абу Муслим сидит в нашем с ним Мерве очень тихо, но… Не надо создавать плохому человеку соблазна победить тебя без усилий. Тем более что дело не только во мне, это не только мои личные чакиры вокруг нас с тобой, это — получается так — люди Куфы, люди халифа в самом сердце Мерва. Хоть они и хорасанцы. Их у меня должно быть достаточно много, чтобы наш мир… чтобы он пока оставался таким, какой есть. Что и тебя касается, с твоим Самаркандом. Ну, а когда у тебя своя армия… не я придумал этот мир, не ты, друг мой Маниах, его придумал. Армии нужна время от времени забава и добыча. А ее полководцу — уважение. Если мы вернемся отсюда побитые, это будет для них (он повернул профиль в сторону прорези полотна)… ну, все же будет нормально и привычно. Поражения — бывают, и прощаются. Только не трусость. Что ты хочешь — чтобы я рассказал им. что приехал легендарный воин и рассказал мне вот такую историю? Они подумают, что я сошел с ума или стал трусом.