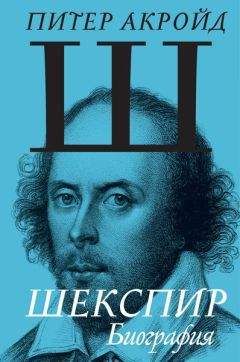Мэри с раннего детства не любила чопорных семейных трапез. То, как подавали тарелки, как раскладывали по ним еду, — все наводило на нее тоску и усталость, даже звяканье столовых приборов. Один только Чарльз умел поднять ей настроение.
— Интересно, — вдруг произнес он, — кто был величайшим дураком на свете? Уилл Сомерс?[15] Судья Шеллоу?[16]
— Ну, знаешь, Чарльз… Ты забываешься, — отозвалась миссис Лэм, не отводя рассеянного взгляда от мужа.
Мэри рассмеялась, и кусочек картофеля застрял у нее в горле. Задыхаясь, она вскочила со стула; миссис Лэм тоже поднялась из-за стола, но дочь резко отмахнулась от нее: она не желала, чтобы мать к ней прикасалась. Откашлявшись, она выплюнула злополучный кусок себе в ладонь и перевела дух.
— Кто купит мне сладких апельсинов? — спросил отец.
Миссис Лэм села на свое место и продолжила трапезу.
— Ты очень поздно пришел домой, Чарльз.
— Я обедал с друзьями, ма.
— Это у вас так называется?
* * *
Накануне Чарльз вернулся на Лейстолл-стрит сильно пьяным. Мэри, как всегда, дожидалась его и, едва заслышав, как он тщетно пытается попасть ключом в замочную скважину, распахнула дверь и подхватила чуть державшегося на ногах брата. Два-три раза в неделю он непременно вечером напивался, или, как он сам виновато говорил на следующий день, «надирался», но Мэри никогда его за это не корила. Ей-то ясно, отчего он пьет, и она полностью разделяет его чувства. Будь у нее такая возможность да побольше смелости, она и сама напивалась бы каждый божий день. Заживо лечь в могилу — разве это не уважительная причина для запоя? Чарльз по крайней мере писатель, а писатели славятся своей невоздержностью. Вспомнить хотя бы Стерна и Смоллетта.[17] И ведь он никогда не кричит, никого не задирает, всегда кроток и добродушен, разве только на ногах не стоит и говорит невнятно. «Таков мой долг. Таков мой долг,[18] — сказал он ей прошлой ночью. — Ну, веди меня».
Вместе с двумя сотоварищами по Ост-Индской компании, Томом Коутсом и Бенджамином Мильтоном, Чарльз провел тот вечер на Хэнд-корт, в пивной «Здравица и Кот», что неподалеку от Линкольнз-Инн-филдс. Оба приятеля Чарльза были темноволосы, низкорослы и щеголеваты; говорили быстро и хохотали сверх всякой меры над замечаниями друг друга. Чарльз был немного моложе Коутса и немного старше Мильтона, а потому считал себя, как он выражался, «нейтральной средой, беспрепятственно пропускающей через себя гальванические силы». Коутс рассуждал о Спинозе и Шиллере, о Библии как источнике вдохновения и о буйном воображении романтиков. Мильтон разглагольствовал о геологии, о разных эрах в истории земли, об окаменелостях и пересохших морях. Захмелевший Лэм словно воочию видел зарождение мира. Подумать только, какие горы способно своротить общество, к которому принадлежат столь великие умы!
* * *
— Я тебя вчера разбудил, да, мама?
— Я уже не спала. Мистер Лэм никак не мог угомониться.
По ночам ее муж норовил помочиться на улицу прямо из окна спальни, но миссис Лэм пресекала эти поползновения самым решительным образом.
— Ты был тише воды, ниже травы, — вставила Мэри, отдышавшись после приступа кашля. — И сразу лег спать.
— Благодаря твоим добрым словам мне уготована вечная жизнь, Мэри. Небесной благодатью осиянна такая сестра.
Однако это проявление их взаимной приязни не произвело на миссис Лэм никакого впечатления:
— Я явственно слышала грохот в твоей комнате, Чарльз. Там что-то рухнуло на пол.
* * *
На самом деле случилось вот что: Мэри помогла брату подняться по лестнице и, осторожно поддерживая под руку, довела до спальни. Она с наслаждением вдыхала шедший от него хмельной дух и слабый запах пота. Какое счастье ощущать его рядом, совсем близко! А раньше она была лишена этой радости. В школьные годы Чарльз жил в интернате, и в начале каждого семестра, после отъезда брата, ее душу охватывала странная злость, смешанная с тоскливым чувством одиночества, покинутости. Он уезжал в мир знаний и дружеского общения, а она оставалась с матерью и Тиззи. Вот тогда-то, закончив хлопоты по хозяйству, Мэри и садилась за книги. Спальней ей служила укромная комнатка в мезонине. Здесь хранились оставленные братом учебники, в том числе латинская грамматика, словарь древнегреческого языка, «Философский словарь» Вольтера и «Дон-Кихот». Мэри старалась не отставать от брата, однако по его возвращении на каникулы нередко оказывалось, что даже опередила его. Она уже начала читать и переводить четвертую книгу «Энеиды»,[19] где речь идет о любви Дидоны и Энея, а Чарльз к тому времени не одолел еще речей Цицерона.
— At regina gravi iamdudum saucia cura, — продекламировала однажды Мэри, но брат лишь рассмеялся:
— Что означает сия абракадабра?
— Это же Вергилий, Чарльз. Дидона горюет.
Он снова засмеялся и потрепал ее по волосам. Мэри слабо улыбнулась и опустила голову, стыдясь собственного тщеславия и глупости.
Но бывало и иначе. Нередко они целыми вечерами занимались вместе, корпели над одной книгой, с горящими глазами вникая в одну и ту же фразу. О Родрике Рэндоме и Перигрине Пикле[20] они говорили как о действительно существовавших людях и придумывали новые приключения для Лемюэля Гулливера и Робинзона Крузо. Воображали, будто сами оказались на Робинзоновом острове и прячутся в зарослях от напавших на них каннибалов. А потом вновь возвращались к головоломному греческому синтаксису. И Чарльз называл Мэри «завзятой эллинисткой».
* * *
— Что-то рухнуло, мама? — тоном оскорбленной невинности переспросил Чарльз. Он в самом деле не понимал, о чем мать толкует.
В ту ночь он упал на кровать и мгновенно забылся глубоким сном, словно улизнул наконец в иной мир. Расшнуровав ему сапоги, Мэри принялась стягивать один из них, но поскользнулась и упала спиной на письменный стол; от удара со стола слетели подсвечник и небольшая медная плошка, в которую Чарльз складывал использованные шведские спички. Этот грохот был отчетливо слышен в расположенной напротив спальне матери, тем более что бдительная миссис Лэм уже и так не спала. Но самого Чарльза шум не разбудил. В наступившей тишине Мэри осторожно поставила подсвечник и плошку на место; затем медленно стянула с брата сапоги и легла рядом. Обвив его тело руками, она тихонько опустила голову ему на грудь и ощутила, что голова ее ритмично вздымается и опускается в такт дыханию брата. Спустя несколько минут Мэри неслышно поднялась в свою каморку.
* * *
После воскресного семейного обеда Чарльз, по сложившейся традиции, читал вслух родителям и сестре Библию. Обычай этот ему даже нравился. Библия короля Иакова[21] восхищала его изяществом слога. Возвышенная гармония, ритмичность и благозвучие этого перевода еще в детстве произвели на Чарльза большое впечатление; его словно овеяло свежим ветром. «Я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня».[22] Семейство собралось в гостиной — той самой, где Мэри недавно подставляла лицо солнечным лучам. Чарльз с Библией в руках сел за маленький, разрисованный листьями столик.
— Это, папа, история Навуходоносора.
— Правда? А откуда он знал, когда ему плакать?
— Когда Бог его наказал, мистер Лэм, — многозначительно сказала миссис Лэм. — Всякая плоть — трава.[23]
Мэри непроизвольно поднесла руку к лицу; Чарльз продолжил чтение: «И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна».[24]
На следующий день Чарльз вышел из дома и направился на Леденхолл-стрит, в Ост-Индскую компанию. Стояло ясное осеннее утро. Пройдя Холборн-пассидж, Чарльз влился в густую толпу пешеходов, двигавшихся в сторону Сити. Но что-то странное, явно необычное привлекло вдруг его внимание, и он повернул обратно. В тот день он поднялся рано; стало быть, в его распоряжении еще добрый час до той минуты, когда он обязан сесть за свою конторку в отделе дивидендов. Холборн-пассидж мало чем отличался от обычного заштатного переулка — еще одна темная ниточка в ткани города, веками вбиравшая в себя сажу и пыль. Тут имелись лавчонка, торговавшая курительными трубками, и мастерская по пошиву накидок, столярная мастерская и книжный магазин. На всех них лежал желтовато-серый налет старости и заброшенности, с которым они давно смирились. Одеяния в витрине выцвели, лежащие под стеклом трубки уже никто никогда не набьет табаком, а столярная мастерская, похоже, давно пустует. Ага. Вот что привлекло его внимание. Выставленный в витрине книжного магазина лист, исписанный характерной наклонной вязью шестнадцатого века.