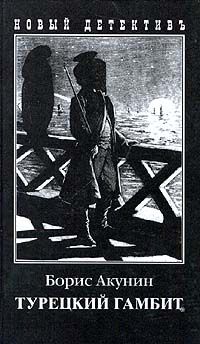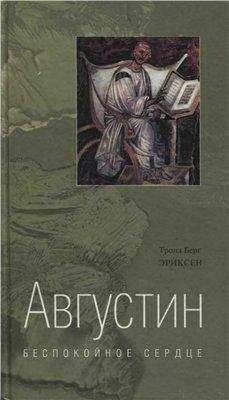— Никуда не денется, — уверенно пообещал генерал. — Я этот вариант тоже рассматривал. Для того и привел с собой Эраста Фандорина. Без высочайшего одобрения назначить человека на такое тонкое дело не посмел. Уж больно многое на карту поставлено. Фандорин находчив, решителен, оригинального строя мысли, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. Знает язык. С Маклафлином знаком лично. Надо — похитит. Нельзя похитить — договорится. Не договорится — поможет Шувалову организовать хороший скандал. Может свидетельствовать против Маклафлина и сам как непосредственый очевидец. Обладает незаурядным даром убеждения.
— А Шувалов кто? — прошептала Варя.
— Наш посол, — рассеянно ответил титулярный советник, думавший о чем-то своем и, кажется, не очень-то слушавший генерала.
— Как, Фандорин, справишься? — спросил император. — Съездишь в Лондон?
— Съезжу, ваше в-величество, — сказал Эраст Петрович. — Отчего же не съездить…
Самодержец испытующе посмотрел на него, уловив недосказанность, но Фандорин больше ничего не присовокупил.
— Что ж, Мизинов, действуй по двум направлениям, — подытожил Александр. — Ищи и в Константинополе и в Лондоне. Времени только не теряй, мало его осталось.
Когда вышли в адъютантскую, Варя спросила генерала:
— А если Маклафлин вообще не отыщется?
— Уж поверьте моему чутью, милая, — вздохнул генерал. — С этим джентльменом мы еще непременно встретимся.
Глава двенадцатая,
в которой события принимают неожиданный оборот
«Петербургские ведомости», 8(20) января 1878 г. ТУРКИ ПРОСЯТ МИРА!
После капитуляции Вессель-паши, после взятия Филиппополя и сдачи древнего Адрианополя, распахнувшего вчера ворота перед казаками Белого Генерала, участь войны окончательно решилась, и сегодня утром в расположение наших доблестных войск прибыл поезд с турецкими парламентерами. Состав задержан в Адрианополе, а паши переправлены в штаб главнокомандующего, квартирующего в местечке Германлы. Когда глава турецкой делегации 76-летний Намык-паша ознакомился с предварительными условиями мира, то в отчаянии воскликнул: «Votre armée est victorieuse, votre ambition est satisfaite et la Turkic est détruite![18]»
Что ж, скажем мы, туда ей, Турции, и дорога.
Так толком и не попрощались. На крыльце «походного дворца» Варю подхватил Соболев, околдовал магнетизмом славы и успеха, увез в свой штаб праздновать победу. Эрасту Петровичу она едва успела кивнуть, а наутро его в лагере уже не было. Денщик Трифон сказал: «Уехали. Через месяц заходите».
Но месяц прошел, а титулярного советника все не было. Видимо, найти Маклафлина в Англии оказалось не так-то просто.
Не то чтобы Варя скучала — наоборот. Как снялись с плевненского лагеря, жизнь стала увлекательной. Что ни день — переезды, новые города, умопомрачительные горные пейзажи и бесконечные торжества по поводу чуть ли не ежедневных викторий. Штаб верховного переехал сначала в Казанлык, за Балканский хребет, потом еще южнее, в Германлы. Тут и зимы-то никакой не было. Деревья стояли зеленые, снег виднелся только на вершинах дальних гор.
Без Фандорина заняться было нечем. Варя по-прежнему числилась при штабе, исправно получила жалованье и за декабрь, и за январь, плюс походные, плюс наградные к Рождеству. Денег накопилось изрядно, а тратить не на что. Хотела раз в Софии купить очаровательный медный светильник (ну точь-в-точь лампа Аладдина) — какое там. Эвре и Гриднев сцепились чуть не до драки — кто преподнесет Варе безделушку. Пришлось уступить.
Да, о Гридневе. Восемнадцатилетнего прапорщика к Варе приставил Соболев. Герой Плевны и Шейнова был денно и нощно занят ратными трудами, но про Варю не забывал. Когда удавалось вырваться в штаб, непременно заглядывал, присылал гигантские букеты, приглашал на праздники (Новый Год вот дважды встречали — по западному стилю и по-русски). Но и этого настырному Мишелю было мало. Откомандировал в Варино распоряжение одного из своих ординарцев — «для помощи в дороге и защиты». Прапорщик сначала дулся и смотрел на начальство в юбке волчонком, но довольно быстро приручился и, кажется, даже проникся романтическими чувствами. Смешно, но лестно. Гриднев был некрасив (красивого стратег Соболев не прислал бы), но мил и по-щенячьи пылок. Рядом с ним двадцатидвухлетняя Варя чувствовала себя женщиной взрослой и бывалой.
Положение у нее было довольно странное. В штабе ее, судя по всему, считали Соболевской любовницей. Поскольку отношение к Белому Генералу было восторженно-всепрощающее, никто Варю не осуждал. Напротив, частица Соболевского сияния как бы распространялась и на нее. Пожалуй, многие офицеры даже возмутились бы, узнав, что она смеет отказывать преславному Ахиллесу во взаимности и хранит верность какому-то жалкому шифровальщику.
С Петей, по правде говоря, складывалось не очень. Нет, он не ревновал, сцен не устраивал. Однако после несостоявшегося самоубийства Варе с ним стало трудно. Во-первых, она его почти не видела — Петя «смывал вину» трудом, поскольку смыть вину кровью в шифровальном отделе было невозможно. Дежурил по две смены подряд, спал там же, на складной койке, в клуб к журналистам не ходил, участия в пирушках не принимал. И Рождество, и сочельник пришлось отмечать без него. При виде Вари его лицо загоралось тихой, ласковой радостью. А говорил с ней, словно с иконой Владимирской Богоматери: и светлая она, и единственная надежда, и без нее он совсем пропал бы.
Жалко его было безумно. И в то же время все чаще подступал неприятный вопрос: можно ли выходить замуж из жалости? Получалось, что нельзя. Но еще немыслимей было бы сказать: «Знаешь, Петенька, я передумала и твоей женой не стану». Это все равно что подранка добить. В общем, куда ни кинь, все клин.
В кочевавшем с места на место пресс-клубе по-прежнему собиралась многочисленная компания, но уже не такая шумная, как в незабвенные зуровские времена. В карты играли умеренно, по-маленькой. Шахматные партии с исчезновением Маклафлина вовсе прекратились. Об ирландце журналисты не поминали, во всяком случае при русских, однако двое остальных британских корреспондентов были подвергнуты демонстративному бойкоту и бывать в клубе перестали.
Случались, конечно, и попойки, и скандалы. Дважды чуть не дошло до кровопролития, и оба раза, как на грех, из-за Вари.
Сначала, еще в Казанлыке, один заезжий адъютантик, не вполне разобравшийся в Варином статусе, неудачно пошутил: назвал ее «герцогиней Мальборо», явно намекая на то, что «герцог Мальборо» — Соболев. Д'Эвре потребовал от наглеца извинений, тот спьяну заартачился, и пошли стреляться. Вари тогда в шатре не было, а то она, конечно, прекратила бы этот дурацкий конфликт. Но ничего, обошлось: адъютантик промазал, д'Эвре ответным выстрелом сбил ему с головы фуражку, после чего обидчик протрезвел и признал свою неправоту.
В другой раз к барьеру вызвали уже самого француза, и опять за шутку — но на сей раз, на взгляд Вари, довольно смешную. Это было уже после того, как ее повсюду стал сопровождать юный Гриднев. Д'Эвре опрометчиво заметил вслух, что «мадемуазель Барбара» теперь похожа на Анну Иоанновну с арапчонком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутации корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Поскольку сцена произошла в Варином присутствии, до пальбы не дошло. Гридневу она велела помалкивать, а д'Эвре — взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачно и monsieur sous-lieutenant[19] скорее напоминает Геркулеса, захватившего керинейскую лань. На том и помирились.
Временами Варе казалось, что д'Эвре бросает на нее взоры, которые можно растолковать только в одном смысле, однако внешне француз держался сущим Баярдом. Как и другие журналисты, он по нескольку дней пропадал на передовой, и виделись они теперь реже, чем под Плевной. Но однажды произошел у них наедине некий разговор, который Варя впоследствии восстановила по памяти и слово в слово записала в дневнике (после отъезда Эраста Петровича почему-то потянуло писать дневник — должно быть, от безделья).
Сидели в придорожной корчме, на горном перевале. Грелись у огня, пили горячее вино, и журналиста немножко развезло с мороза.
— Ах, мадемуазель Барбара, если бы я был не я, — горько усмехнулся д'Эвре, не ведая, что почти дословно повторяет обожаемого Варей Пьера Безухова. — Если бы я был в ином положении, с иным характером, с иной судьбой… — Он посмотрел на нее так, что сердце у Вари в груди запрыгало, как через скакалку. — Я бы непременно посоперничал с блистательным Мишелем. Как, был бы у меня против него хоть один шанс?
— Конечно, был бы, — честно ответила Варя и спохватилась — это прозвучало как приглашение к флирту. — Я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше и не больше, чем у Михаила Дмитриевича. То есть никаких. Почти.