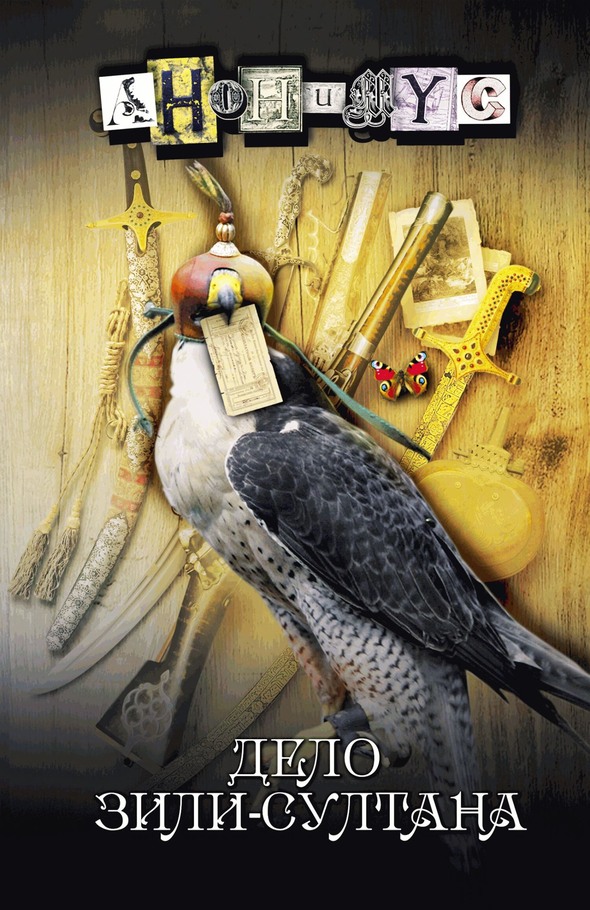русских сезонах в Париже. Они произвели на него такое впечатление, что он хочет в будущем году увидеть их у себя в Монако. И я приехал, так сказать, на разведку – посмотреть зал, послушать акустику, дать кое-какие рекомендации, ну, и так далее. И вот сюрприз – приезжаю в Монте-Карло и вижу тебя. Ну, признайся, могла ли быть встреча приятнее?
Нестор Васильевич улыбнулся, всем своим видом показывая, что более приятной встречи и представить себе трудно.
– Скажи, а ты приехал сюда один? – вдруг спросил он с некоторым напряжением в голосе, глядя куда-то мимо импресарио.
– Нет, я приехал не один, – отвечал Дягилев, – я привез тут одну козочку, чтобы она, так сказать, потоптала здесь травку, прежде, чем явится все стадо баранов из кордебалета. Здесь она выступает своего рода экспертом… Однако где же она, ведь только что была тут?
Он завертел головой, пытаясь отыскать потерянную спутницу, но Загорский уже и сам ее увидел. В некотором отдалении от них на скамейке сидела молодая женщина лет двадцати пяти, и, кажется, изо всех сил старалась слиться с окружающим фоном. Загорский в один миг охватил взглядом нежный профиль, гладко зачесанные каштановые волосы, тонкий, почти полупрозрачный силуэт, светлое платье и стройные икры, выглядывающие из-под него, и изящные балетные ручки, как будто только что завершившие арабеск.
С такого расстояния нельзя было разглядеть ее глаз, но Загорскому это было и не нужно, он и так знал, что глаза у женщины серые, он помнил каждую черточку ее лица и каждый изгиб ее тела, как будто они расстались только вчера.
– Светлана Александровна! – закричал Дягилев. – Что вы там делаете, идите сюда!
И ворчливо повернулся к Нестору Васильевичу: с этими балетными барышнями одна беда, не зря говорят, что у танцовщиц все мозги ушли в пуанты. Однако что делать, примы все заняты, пришлось взять с собой корифейку [10]. Несколько лет назад она подавала большие надежды, исполняла сольные партии в Императорском балете, но потом вдруг словно сломалась. Говорили о какой-то несчастной любви, каком-то расставании… Но если спросите его, Дягилева, то какая, между нами, говоря, может быть у балерины любовь? Балетные к любви не приспособлены – так, скитания от одного покровителя к другому. Исключение составляют только мужчины, вот, например, Ваца Нижинский. Этот умеет любить как никто, уж ему можете поверить! А балерины – нет, тут что-то другое…
Тем временем Лисицкая подошла к ним почти вплотную. При виде ее Загорский, Ганцзалин и Ковальский поднялись со стульев как бы по невидимой команде.
– Позвольте представить, – Дягилев сделал некий округлый и слегка небрежный жест, призванный, с одной стороны, обратить внимание присутствующих на предмет в платье, с другой стороны, подчеркнуть невеликую значимость этого предмета, – наша танцовщица Светлана Александровна Лисицкая, прошу, так сказать, любить, и все остальное…
– Здравствуйте, господа, – проговорила она ровным голосом, скользнув взглядом по лицам стоявших перед ней мужчин. Ни единый мускул не дрогнул на этом лице даже в тот миг, когда глаза ее встретились с глазами Загорского, да и сам действительный статский советник ничем не выдал своих чувств.
Из тех, кто присутствовал при этой безмолвной сцене, о происходящем мог догадываться только Ганцзалин, да и то не до конца. Совершенно непонятно было, что делать дальше, но, по счастью, Дягилев заявил, что он хочет угостить всех присутствующих в каком-нибудь приличном ресторане, потому что это кафе совершенно не подходит для людей со вкусом и непонятно, что здесь делает такой утонченный человек, как его старинный друг Нестор Загорский.
Решивши так, Сергей Павлович немедленно подхватил под ручку ошалевшего от его напора Марека и повлек за собой на заклание, словно того самого барана из кордебалета. Следом за ними деликатно устремился Ганцзалин, отделив, таким образом, их от Загорского и Лисицкой, которые воленс-ноленс остались теперь стоять лицом к лицу.
– Позволь предложить тебе руку, – после небольшой паузы сказал Нестор Васильевич.
Что-то дрогнуло в ее лице.
– Это лишнее, – сказала она сухо, и пошла чуть впереди, саженях в десяти от Ганцзалина, который, несмотря на свою деликатность, все-таки время от времени поглядывал назад, чтобы понять, что там происходит.
С полминуты они шли молча, и молчание это было невыносимо для обоих.
– Как ты поживаешь? – наконец спросил Загорский. – Или мне теперь следует говорить: как вы поживаете?
– Это неважно, говори, как хочешь, – отвечала она, глядя куда-то в сторону.
Чуть заметная невеселая улыбка скользнула по губам действительного статского советника.
– Так как ты поживаешь?
Поживала она в целом неплохо. Да, лучшие годы были позади, но поклонники еще помнили ее в сольных ролях и даже в кордебалете приветствовали так, как не всякую приму приветствуют. Вот и Дягилев предложил ей участие в своих сезонах, а это значит, что она будет танцевать рядом со звездами мирового балета. Может быть, все-таки станет примой.
Загорский, однако, так не думал. И дело было не в ее способностях – по таланту, пожалуй, она никому не уступит. Дело было в Дягилеве. Он недолюбливал балерин, терпел их только для дела, для всех этих богатых меценатов – любителей стройных ножек. Сергей Павлович искренне полагал, что будущее балета – за мужчинами-танцорами вроде Вацлава Нижинского. Взгляд этот был по-своему революционен: танцоры, которые раньше были почти что сценической мебелью, чем-то вроде подставки для партнерш, и которым доверялись только поддержки, должны были, по мысли Дягилева, занять главное место на балетной сцене.
Конечно, когда речь шла о мировых знаменитостях вроде Анны Павловой или фаворитках венценосных особ вроде Кшесинской, тут импресарио вынужден был терпеть, но заниматься сравнительно молодыми и не слишком известными танцовщицами было совершенно не в его духе. Использовать их в своих целях – это пожалуйста, но и не более того. Если он не обожал балерину или танцовщика, как свое собственное дитя, он использовал человека, выжимал его досуха и выбрасывал вон, не думая, что когда-нибудь так же поступят и с ним самим. Духи-покровители искусства мстят за пренебрежение к своим любимцам и мстят жестоко. Впрочем, говорить это Сержу было бы бессмысленно, он слушал только себя.
Можно было бы, конечно, замолвить перед ним словечко за Светлану, но это был бы пустой труд. Нежность и доброту она сочетала с необыкновенной гордостью и ни от кого не приняла бы помощи – тем более, от Загорского.
Ничего этого, разумеется, действительный статский советник не сказал, просто молча шел по пятам за Лисицкой и глядел в ее идеально прямую балетную спину.
– Ну, а ты? – наконец сказала она, не оборачиваясь. – Все так же