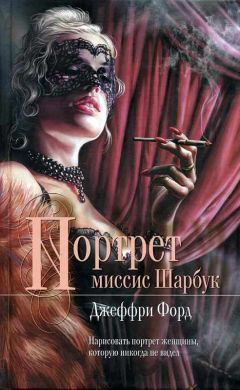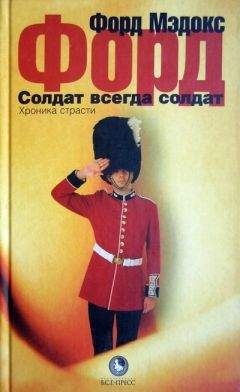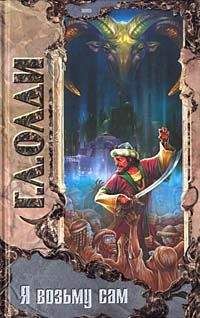Свет мы выключили, зажгли мускатную свечку, запах которой я теперь ненавидел, и забрались под одеяла. Перед моим мысленным взором возник женский образ с наброска, перемежающийся с моим собственным видением миссис Шарбук — в лунном свете за ширмой я различал мельчайшие детали. Я не хотел прогонять эти образы и молился, чтобы Саманта поскорее уснула.
Мои молитвы, увы, не были услышаны — Саманта повернулась ко мне, и я со всепроникающим чувством обреченности отдался на волю судьбы. Мое орудие желания в эту ночь оказалось для меня таким же бесполезным, как пистолет для миссис Рид. Мне и Двойняшки были не нужны, чтобы предсказать, что этим злоключением дело не кончится и последствия у него будут самые неприятные. Правда, настойчивость была столь требовательна, что вызвала к жизни истинно американскую находчивость.
Вскоре после этого дыхание уснувшей Саманты замедлилось и стало ровным. Я полежал некоторое время не двигаясь, а когда удостоверился, что она и в самом деле спит, подождал еще несколько минут. Потом я ловко и осторожно откинул одеяло со своей стороны кровати. Контролируя каждый мускул своего тела (что, поверьте мне, было совсем непросто), я даже не сел — я воспарил. Я оставался на краешке кровати еще несколько мгновений, желая убедиться, что не разбудил Саманту. Услышав наконец за биением своего сердца ее ровное дыхание, я осторожно продолжил подниматься на ноги.
Я в буквальном смысле на цыпочках обогнул кровать и пересек комнату, уподобляясь какому-нибудь коллеге мистера Вулфа, крадущемуся по складу. Я знал, что петли стенного шкафа хуже смерти, и потому открыл их одним резким движением, чтобы не растягивать скрип. Я повернулся и посмотрел на кровать. Саманта лежала лицом ко мне, но глаза ее были закрыты. Среди висящих вещей я нащупал свою домашнюю куртку, потрогал рукав. Набросок был на месте. Я вздохнул с облегчением — у меня было предчувствие, что я его не найду. Одним резким движением я извлек свернутый в трубку лист из рукава. Здравый смысл взял верх, и я не стал закрывать дверь, не желая еще раз рисковать, тревожа петли. Потом я повернулся и пошел прочь из спальни.
Я уже совсем было вышел в коридор, но тут вспомнил, что нужно погасить свечу. Я наклонился над туалетным столиком, тихонько дунул и оказался в полной темноте.
Голос Саманты чуть не заставил меня подпрыгнуть.
— Она распоряжается тобой, Пьямбо.
Я вопреки здравому смыслу сказал себе, что она спит, что она говорит во сне, но не стал выяснять, так ли это на самом деле. Ни разу не оглянувшись, я направился прямо в мастерскую. Там я зажег свет и затопил камин, потом сел и развернул лист. Я тщательно изучил каждый его дюйм, и в моем воображении снова загорелось первоначальное видение, и орган, только что продемонстрировавший свое бессилие, теперь напрягся в готовности.
Когда я наконец оторвался от наброска, камин уже погас и дневной свет начинал пробиваться в мастерскую сквозь фонарь в потолке. Я вернул набросок на его потайное место и потихоньку улегся в постель. Позднее, когда Саманта проснулась, я сделал вид, что сплю. Она ушла, но я помню, что перед уходом она поцеловала меня в щеку. А потом я и в самом деле уснул, и мне снился мой набросок в сотнях непристойных сцен на холстах, развешанных по стенам главной галереи академии.
Когда я проснулся, образ миссис Шарбук потянулся за мною из сна, и повсюду я видел его проекцию (словно в живых картинках Эдисона) на фоне дня — когда я брился, бесплотный призрак заглядывал через мое плечо в зеркало, потом он перемещался за мной по гостиной, парил над толпами людей на Мэдисон-авеню. Я говорю это не метафорически и не буквально — призрак находился посредине между двумя этими понятиями. Никогда еще Саманта не была так права. Миссис Шарбук распоряжалась мной, как Солнце распоряжается Землей, а Земля — Луной. Что же касается меня, то, даже пребывая в столь плачевном состоянии, я не сомневался, что созданный моей фантазией образ отвечает действительности, и, направляясь на очередной сеанс, я весь сиял, довольный собой.
У меня даже нашлось доброе слово для Уоткина — я поздравил его с фиолетовым костюмом. Кажется, это вывело его из себя даже больше, чем мои грубости. Провожая меня, как обычно, к миссис Шарбук, он пропустил поворот и слегка ударился плечом о дверной косяк. Потом я оказался перед ширмой. Я раскрыл этюдник, достал угольный карандаш, и она заговорила:
— Сегодня последний день второй недели, Пьямбо.
— Я помню. Я уже начал ваш портрет.
— И как я у вас получаюсь — хорошенькой? — спросила она.
— Пожалуй. Я сейчас работаю над вашими руками. Руки очень важны для портрета. Их значение для человека и место на картине по важности уступают только лицу. На портрете вы будете держать историю своей жизни в своих же руках.
— Вы же знаете, я не могу описать вам мои руки.
— Конечно же нет. Продолжайте вашу историю с того места, где остановились.
— Я расскажу, но сначала позвольте остановиться на одном особенном случае. Это как раз и связано с руками.
— Отлично — сказал я, двумя штрихами изображая полумесяц — ноготь большого пальца.
— Оплатив похороны моего отца и погасив все его долги, я осталась с довольно изрядной суммой на руках. Достаточной для того, чтобы пусть скромно, но прожить два полных года. Дни мои в это время напоминали дни Торо на Уолденском пруду[47] или задолго до него — на существование Робинзона Крузо, оказавшегося на необитаемом острове. Я оставалась в изоляции, не искала никаких знакомств, не завязывала отношений с другими людьми. В те годы я, сидя за ширмой, прочла горы книг. Хотя я и жила замкнуто, мир вливался в меня и усиливал мое убеждение в том, что я — его эпицентр. Двойняшки были моими товарищами, они каждый день нашептывали мне что-нибудь, демонстрируя свои пророческие способности, укрепляя наше взаимное доверие.
Но мои ночи были совсем иными. Когда начинал приближаться вечер, я повязывала платок, надевала широкополую шляпу, пряча лицо, и выскальзывала из здания, чтобы до закрытия магазинов купить себе еду. Я как могла избегала людских взглядов, но мне придавало уверенности то, что никто не знает меня. Анонимность — это некая форма невидимости. Приобретя провизию и осмотрев полки еще открытых книжных лавок, я отправлялась побродить по улицам часок-другой. Нередко я видела сцены и происшествия, предсказанные Двойняшками. До того как улицы пустели и становились опасными, я возвращалась в покой своего дома и пряталась за ширмой.
Жизнь меня полностью устраивала, но по прошествии двух лет деньги отца стали подходить к концу, и я была вынуждена задуматься о работе. Я всегда знала, что рано или поздно вернусь к своей роли Сивиллы. В этих представлениях с ширмой было что-то, укреплявшее мое ощущение всезнания. Я поместила в газете объявление и провела собеседования с несколькими претендентами на роль администратора. Моему номеру был необходим ассистент, который мог бы так обходиться с публикой, чтобы я оставалась загадкой. Мне также требовалось, чтобы он организовывал представления — ведь эта задача требовала прямых контактов с владельцами залов.
Не забывайте, Пьямбо, мне в то время не было и пятнадцати, но я ясно понимала, что нужно делать, и контролировала ситуацию. В своей квартире я провела собеседования с довольно большим числом людей. Конечно же, я разговаривала с ними из-за ширмы. Прошло не так уж много лет с того времени, когда Сивилла была в городе притчей во языцех, и многие из этих претендентов прекрасно понимали, что, получив это место, они в скором времени разбогатеют. Я выбрала на эту работу джентльмена, который до этого несколько лет работал на Ф. Т. Барнума[48], а еще прежде был связан с эстрадой. Звали его Карвин Шют, и он обладал всеми теми качествами, которые искала я, — драматическим чувством, острым умом, организаторскими способностями, готовностью исполнять свои обязанности и при этом никогда не видеть своего нанимателя. Это была его идея — вставить белые глазные протезы и притвориться слепым. Я сообщила ему о том, что терпеть не могу быть на виду и вообще питаю отвращение к глазам, а потому он счел, что лучше, если мои случайные взгляды будут падать на незрячего. Что же касается самого представления, то он сказал: «Вы только подумайте, Лусьера, как здорово все получается. Человек, который не видит, представляет публике провидицу, которую нельзя увидеть». Я знала, что моему отцу понравилось бы такое сопоставление. Это было подобно обезьяньей лапе — еще одна обманка.
— Значит, Шют — это Уоткин?
— Конечно. Я неплохо платила ему все эти годы, но он настолько предан мне, что я все равно чувствую себя в долгу перед ним. Его мне просто Господь послал. Я вам честно скажу — его мотивы и его личность для меня загадочны в такой же мере, как, видимо, и я для него. Он никогда меня не видел, но остается мне верен.