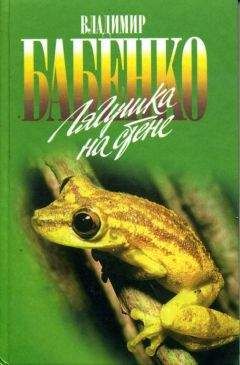Второй шаг показался мукой.
Я скосил взгляд на красноармейца. Он ничего не понимал, а оглянуться не смел.
Все то время, что шел, я бросал на него взгляды. Я не знал, где еще взять сил. Лишь взгляд его, по-оленьи беззащитный, с поднятыми домиком бровями — господи, ребенок еще совсем, — заставлял меня нести эти чертовы кирпичи.
Я добрался до Мазурина и из последних сил опустился на колени. Он снимал с рук моих кирпичи так быстро, как мог. Уже последний был снят, а я все держал руки, и казалось мне, что я по-прежнему что-то несу.
— Где мои рейхсмарки, Отто?
— Ты провел меня. Но все равно получи.
Я закрыл глаза, но тут же распахнул веки, потому что послышался выстрел.
Дотянувшись до края как зубы великана обломанного парапета, я выглянул и посмотрел вниз.
Красноармеец с простреленным черепом лежал на траве. Ноги его, сложенные одна на другую, изгибались, как для умиротворенного сна. Должен же был Отто получить хоть какую-то компенсацию за три проигранные марки.
Прижав голову к руке, я заплакал…
— Касардин… Касардин… Нам нужны силы. Не трать их на это…
Не убирая руки, я, как корова морду о столб, вытер лицо о засаленный рукав.
Мазурин прав. Нам нужно беречь силы.
* * *
Но с какой бы экономией я ни подходил к их расходу, любое движение казалось мне расточительством. Энергия — ее не было уже давно. Быть может, проблески ее и осветили бы мою надежду, когда бы виделся свет в конце этого адского тоннеля. Но чаще всего мне казалось, что, наоборот, мы закованы страшной силой в консервную банку размером с Украину, и нет ножа, чтобы ее вскрыть.
Камни, кирпичи, камни… Я закрывал глаза в минуты отдыха и продолжал их видеть. Они, казалось, навечно приросли к моей груди, и по краям этого уродливого нароста — мои белые от напряжения пальцы…
Люди умирали сотнями. Кого-то добивали прикладами, кто-то падал от истощения. И тогда его забрасывали в грузовик и куда-то увозили. А потом и увозить перестали. Каждый вечер двадцать человек снималось с работ для рытья огромной ямы. Закончив углубляться в землю, несчастные ждали, когда их поднимут наверх, но не тут-то было. Их расстреливали сверху, после чего яма заполнялась умершими за день людьми. Назначалась следующая двадцатка, и эти двадцать сталкивали в яму трупы. Танк из инженерного взвода немецкой части, держа перед собой ковш, яму засыпал, после чего рабочий день можно было считать законченным.
Каждый день, когда миновал меня перст начальника лагеря, выбирающего двадцать человек для похорон, а проще говоря — для закапывания тел, я думал о том, насколько нужно быть сволочью, чтобы с вечера назначать завтрашних покойников. Уже не было секретом, что те, кто сегодня засыпает яму, завтра будет ее рыть и в ней умирать первыми. И эти двадцать проводили ночь и весь последующий день в ужасных мучениях. Я запомнил одного мужчину лет сорока, который спустился в «Уманскую яму» черноволосым, а наутро того дня, когда ему предстояло рыть яму, выбрался полностью седым. Солдаты устраивали тотализатор, пытаясь угадать, кто из двадцати решится на побег. В любом случае для смельчака была одна дорога — в землю. Эти двадцать избранных всегда шагали впереди всей колонны и были словно символом ее, предзнаменованием будущей судьбы всех, кто шел за ними…
Странным образом я запоминал лица почти всех, кто каждое утро выходил на смерть, и втайне наблюдал за ними, пытаясь понять, какие чувства ими руководят. И сердце мое сжималось, когда я видел, что подавляющее большинство из них подавлены и ждут только чуда. В их потухших глазах даже не брезжит желание умереть, но свободным хотя бы на минуту. Война началась неожиданно. Немцы въехали в страну без хлопот. Все верили в Сталина и его победоносных маршалов, но те маршалы, кто к началу войны еще не был выявлен как враг народа, оказались не у дел, а Сталин только-только появился на людях, чтобы что-то сказать…
Я спускался с башни, разрушенной наполовину, брел к куче кирпичей. Эту кучу пополняли те, кто работал внизу. Один из них накладывал мне груз, и я брел наверх. Там сваливал кирпичи Мазурину и брел вниз. Два или три раза мной овладевала мысль, что все это можно закончить одним-единственным шагом мимо крутых мостков, ведущих вниз. Падение вниз головой с высоты третьего этажа гарантировало смерть, быть может, не очень скорую, но надежную. Хотя я — врач… я знаю, как упасть, чтобы испытать минимум мучений. Но всякий раз слышал — в спину: «Терпи, Касардин, терпи, мы этих сук еще…» — и стряхивал с себя прилипчивые идеи…
— Доктор!.. — рявкнул Мазурин, удержав меня в последний момент.
Я качнулся на него, сохраняя равновесие. Нет, это не было попыткой реализовать одну из этих идей о скором прекращении мук. Я просто оступился. А заставила меня это сделать автоматная очередь, раздавшаяся как раз с той тропинки, которую мы с чекистом исследовали.
Кто-то из пленных решился на побег. Стоя наверху, я услышал команду, раздавшуюся сначала по-немецки, а потом переведенную, хотя и с опозданием, на русский. Но в переводе никто не нуждался. Все поняли — нужно стоять недвижимо до тех пор, пока не уляжется инцидент.
Беглец решился дать деру в одиночку. Мне было видно сверху, как шевелились кукурузные стебли, — беглец уходил на запад, решив углубиться в поле, после чего свернуть и замести следы. Но кроме меня, Мазурина и еще двоих на башне стоял немец — рослый мужик с баварским акцентом. Он-то и показывал преследователям дорогу, крича «прямо» или «направо».
Погоня длилась около десяти минут. Столько времени ушло у решившегося на побег, чтобы растратить остатки сил. Колосья метрах в двухстах от башни резко покачнулись… и больше никто их не беспокоил.
Немцы настигли жертву быстро. Некоторое время ушло у них на доставку дважды плененного бойца Красной армии к месту работ, но нас это уже не касалось. Прозвучала команда начать работы.
Правда, через пять минут мы были вынуждены снова ее закончить. Всех, кто работал близ Подвысокого на ремонте водокачки, согнали в строй.
Беглец сам стоять не мог, его держали за плечи двое дюжих эсэсовцев. Рядом с ним расположились двое офицеров, и я догадался, что сейчас нам будет преподан урок…
Сначала я не понял, зачем к башне подогнали танк.
Но когда руки беглеца стали привязывать веревками к двум кольям, я помертвел душой.
Много никто не говорил. Все знали, что произошло. И кто был тому виной.
Колья вбивали в землю двое немецких солдат. Видимо, офицерам не хотелось устраивать казнь еще десятка тех, кто откажется это делать. Это сорвало бы показательность и наглядность урока. Когда заструганные деревца вошли в землю на метр, беглец оказался стоящим с распростертыми в стороны руками. Не в силах держаться на ногах, он упал на колени, но лечь не мог — мешали веревки.
А через минуту его переехал «Тигр»…
— Так будет с каждым, кто решится на побег, — предупредил лейтенант СС, и перевода, прозвучавшего вслед, я не слышал… Я слушал немецкую речь и видел то место, где еще недавно стоял русский солдат…
— Работать! — приказал лейтенант, закурил и направился прочь. Кажется, отправлять естественные надобности.
— Мы должны бежать, — не в силах разжать челюсти, процедил я чекисту.
Голос его был хрипл, словно простужен, когда он отвечал мне:
— Если бы я не увидел сейчас это, я бы беспокоился о тщательной разработке плана побега… — Помолчав, он добавил: — А теперь я хочу побыстрее сняться с этого места, чтобы давить этих сук… как крыс…
До вечера мы не проронили ни слова. Лишь ночью, дожевав то, что называлось здесь хлебом, я лег на спину и прошептал:
— Ты помнишь дорогу, которая выводит к пшеничному полю?
Минуту Мазурин лежал, не двигаясь.
— Ты хочешь спросить, знаю ли я, как нам выйти к тайнику с оружием?
— Да.
Он поднял голову, и она, качаясь, некоторое время словно жила отдельно от его тела.
— Если бы меня вывести к той дороге… — Он подпер голову рукой. — Сегодня они убили не менее сорока человек, Касардин. И это только на моих глазах…
Я не стал говорить ему, что слышал. Когда нас с темнотой сгоняли в карьер, двое унтеров курили, контролируя потоки, и один из них рассказывал другому, как был свидетелем другого разговора — двух офицеров. Какой-то штурмбаннфюрер Зильберварг говорил о том, что позавчера в яме скончалось восемьдесят человек. А за минувшую ночь — восемьдесят восемь.
— В яме дизентерия, Мазурин… Те, кого посылали убирать овощи, наелись…
В карьере стояла зловещая вонь. То и дело люди бежали к стенам, чтобы опорожниться. Ужасная картина терзала мой взгляд. Стены карьера уже давно были превращены в уборные, и нам пришлось сместиться ближе к центру. А сейчас у стен творилось что-то невообразимое. Страдающие голодом люди, оказавшись на полях, ели лук, брюкву, чеснок и тут же превращали себя в механизм для производства рвотной массы. С вечера немцы ссыпали с краев ямы хлорку, и к вони добавилась еще и резь в глазах.