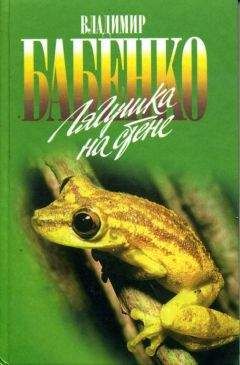Пронеся сержанта еще метров триста, я аккуратно положил его на спину и рассмотрел. Пуля вошла ему в лоб над левой бровью, и, прежде чем умереть, он изрядно наглотался воды. Сняв с него гимнастерку, галифе и сапоги, я быстро переоделся. Размокшая красноармейская книжка лежала в левом кармане гимнастерки. Фото веснушчатой девчушки мне пришлось выкинуть. Равно как и письмо из дома. Но прежде я прочитал его, чтобы знать: я — Макар Голубев, деревня моя — Чаны Новосибирской области, отец мой похоронен без меня и дома голод. Папиросы лежали в кармане галифе, но использовать их по назначению было невозможно.
— Братишка, есть закурить?
Солдат остановился, вынул из кармана кисет и протянул мне. Я скрутил что-то очень похожее на сигарету и сунул в рот.
— Как-то странно ты крутишь? — еще без подозрения, а скорее удивленно заметил солдат.
Вот так и прокалываются, подумал я. Именно так, и никак иначе. Я никогда в жизни не крутил козьих ножек.
— У меня руки дрожат, братишка…
— А-а, — ответил солдат. — Только призвали, паря, да?
— Так и есть.
— Ну, тогда ищи свою винтовку, сержант, иначе ротный тебе задницу намылит! — И он поплелся дальше, став частью огромной широкой ленты, уходящей от переправы на восток… Мне кажется, этих людей даже никто не окликал и не разбирал по подразделениям. Полный, всепоглощающий, животрепещущий хаос. Все просто уходили на восток.
Закупоренный в себе и отупевший, я шел вместе с какой-то частью, и все меня узнавали. Делились хлебом, табаком, спичкой. За спиной моей болталась винтовка, на голове — пилотка, найденная по дороге. Мы шли пешком и о чем-то разговаривали. А я думал о Юле и о том, что делать, когда это бессмысленное движение, наконец, упорядочится и командиры начнут разбирать толпу по подразделениям.
Пройдет еще немало дней, прежде чем пойму, как я смог это сделать. Уже догадываясь, что никогда уже мне не быть доктором Касардиным, а быть сержантом Голубевым, уже рассчитывая свою жизнь вперед на несколько лет, я вместе с отступающими частями добрался до Золотоноши. Я думал о том, как мне исчезнуть, как уехать, размышлял о будущем как о совершенно реальной перспективе, но ничуть не удивился, когда ноги мои сами дошли до места, от которого в свете рассуждений моих следовало держаться подальше.
Выходит, я знал, что сюда приду.
На лавочке городской аллеи, напротив Дома культуры, перелицованного в штаб дивизии, сидел человек в форме подполковника НКВД. Я подошел и сел рядом. Подполковник посмотрел на меня да так и остался сидеть — вполоборота, не сводя с меня глаз. Он словно хотел убедиться, что все продумано, что не ошибка меня привела сюда. Вынув коробку «Герцеговины Флор», он закурил и положил коробку на лавочку. Я дотянулся, взял из нее сигарету и прикурил от зажженной подполковником спички. Он уже не смотрел на меня. Он курил и сплевывал под ноги.
— Правильно ли я понял — твоя семья будет в безопасности, если ты меня доставишь?
— Мы об этом уже говорили, — едва слышно ответил Мазурин.
— То есть сказать, что мое появление в НКВД мгновенно снимает с твоих родных печать «врагов народа», не значит сильно погрешить против истины?
— Я тебя доставляю, мою семью снимают с госдачи, и они возвращаются домой.
— Кто со мной будет работать там?
Он пожал плечами.
— Мое дело — доставить.
— Понятно…
Вытянув ноги, я затянулся и лег на скамейку.
— Мазурин, среди моих документов было фото. На нем изображена девушка. Где она?
— Дома.
— Если бы ты не привез меня, поиски продолжались бы?
— Непременно.
— И тогда Юля стала бы разменной картой?
Мне хотелось услышать об этом, хотя я знал правду и без Мазурина.
— Думаю, да. Ведь у тебя больше никого нет.
Вот она, чекистская выучка… «Ведь у тебя больше никого нет». Как жалко, что у человека никого больше нет и некого будет помучить. Ни больше, ни меньше.
— Мазурин, если я поеду с тобой, ты гарантируешь мне ее безопасность?
— Гарантирую.
Я рассвирепел, как бык перед красной тряпкой.
— Как ты можешь гарантировать, если она еще не стоит в планах?!
Он посмотрел на меня долгим взглядом.
— Ты забыл, о чем говорил тебе Шумов в подвале? Кажется, он напоминал тебе ее имя. — Докуривая до самого мундштука, он сказал: — Это значит, что она уже в плане. Но кому она будет нужна, когда ты окажешься на Лубянке? Вы не женаты, не родственники… Почему ты вернулся?
Его семья, Юля, пережитое пополам с ним? Не знаю…
— Вези меня туда, куда должен. А там я подумаю, как тебе ответить…
Через час за ним прибыла «эмка», очень похожая на ту, остов которой сейчас ржавел в Умани. Правда, водитель был постарше. Доклад о проделанной работе Мазурину пришлось переделать. Он что-то плел в трубку, нес какую-то ахинею, вдаваться в подробности которой я не хотел.
Я уезжал в неизвестность, в конец августа сорок первого года, туда, где нет будущего. И быть не может. За что был убит Киров, знали только Мильда Драуле, Николаев, Яшка и я. Киров не в счет. Он не знает, что убит. Из четверых: Драуле — мертва, Николаев — мертв. Остались двое — я и Яшка. Имени последнего в НКВД не знают. Поэтому Мазурин и везет меня в Москву, чтобы выяснить. Пока война не закончена, секреты государственного масштаба должны храниться в тайне. И не попадать тем более в руки врага. И что Ежов был педерастом, и что Киров имел чужих жен — никто не должен это знать. Вожди не имеют недостатков.
Мятыми, пожелтевшими от старости повестками забрасывает меня осень. Она приглашает меня в будущее, а я все туда не тороплюсь. Когда они были выписаны и в связи с чем — трудно мне уже вспомнить. Так же трудно, как невозможно среди вновь стряхиваемых на меня приглашений распознать, какое из них состарилось этим летом, а какие — в прошлые года. Эти желтые листки — свидетельство моих постоянных опозданий.
Но в конце августа сорок первого года я никуда не торопился. Спешить в преисподнюю — глупо…