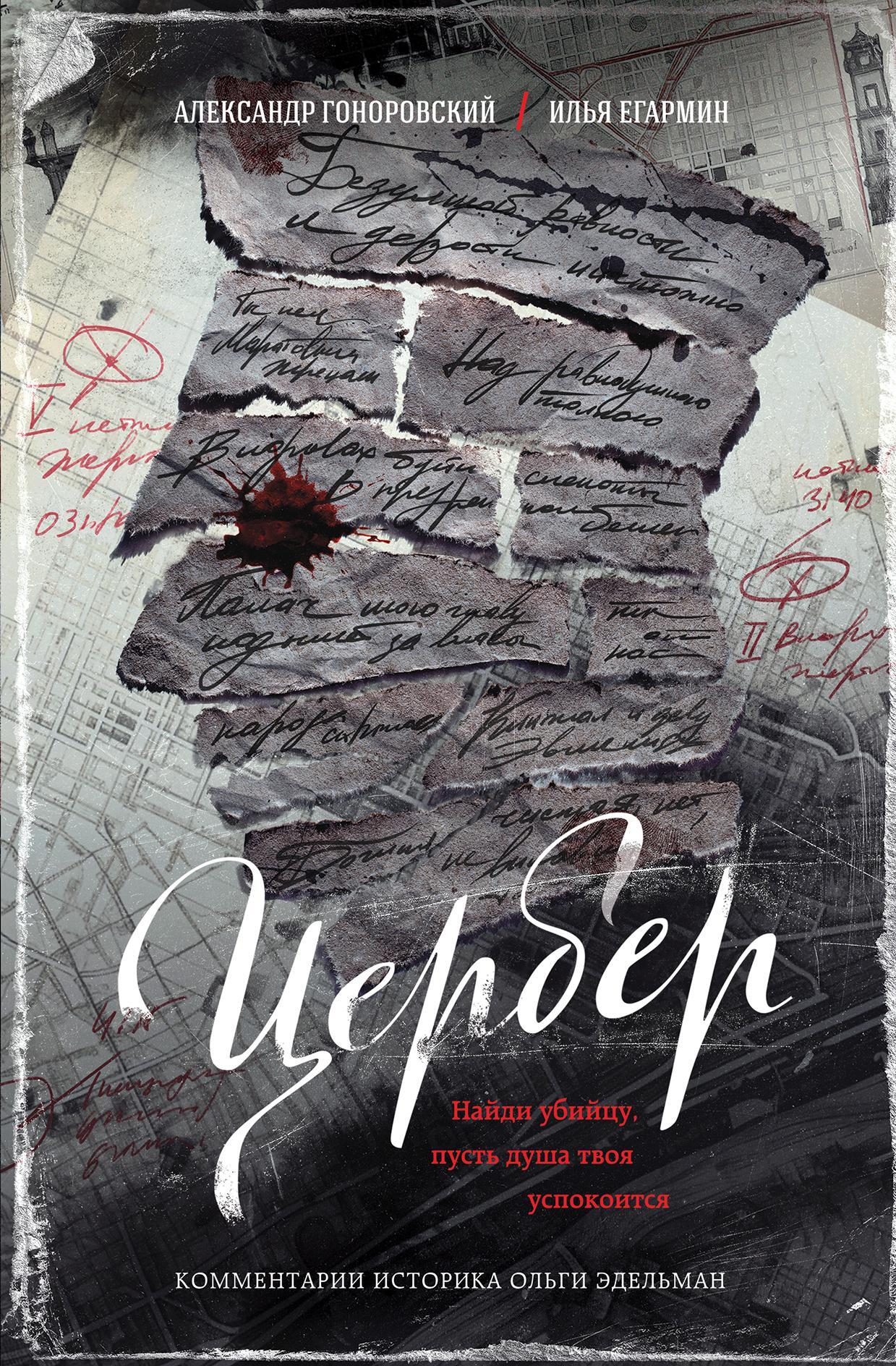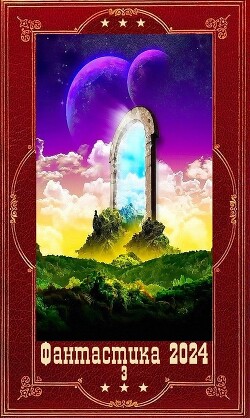Павлович часто смеялся, да и Павел был рад беседе и сыну. Слухи о возможном заточении Александра в Шлиссельбург оставались просто слухами, которые настоятельно распространяли заговорщики, но именно в этот момент за ужином Александр Павлович выбирал: стать ли возможной жертвой или убить отца. А поутру попы во дворе Михайловского замка спешно приводили расставленных в шпалеры солдат к присяге новому императору. Убийство государя всегда требует честного слова солдата.
Бенкендорф, казалось, с неприязнью глянул на Бошняка, ставшего невольным свидетелем разговора:
– Где же письмо, что вы получили? – спросил государя.
– Уничтожил.
– Осмелюсь узнать: осведомлён ли о нём ещё кто-нибудь?
– Жена.
Бенкендорф подстроился под шаг государя. Он всегда делал так, когда ему надо было получить от него утвердительный ответ.
– Считаю своим долгом указать на необходимость расследования упомянутых вами обстоятельств, – сказал Бенкендорф. – Для начала следует поговорить с камердинером вашего брата. Как же его зовут…
Фамилию камердинера никто не вспомнил. Все его издавна звали Егорычем.
Император обернулся к Бошняку:
– Александр Карлыч, зная вашу благонадёжность, смею надеяться, что вы не откажетесь навестить старика. И… Не следует проявлять рвения в этом вопросе. Пусть всё разрешится тайно и само собой.
На дороге в Санкт-Петербург уже стояли посты. Кареты, коляски и даже телеги досматривали. На обочине без всякого толку суетились прапорщики и унтер-офицеры. Чтобы не было промашки, у каждого из них при себе был рисунок, на котором Бошняк изобразил лик Ушакова. Рисунок перерисовывали все кому не лень. Без опознания по рисунку не пропускали. Тех, кто не нравился постовым, включая дам, разворачивали в Петербург.
Никто не знал, кого ловят, но все запасы жареных семечек, которыми торговали на обочине от Петербурга до Царского Села, были распроданы уже к обеду. В общем беспокойстве родилось любопытство, и тракт заполнился повозками и каретами высматривающих тайну петербуржцев. Прошёл слух, что где-то здесь видели покойного императора Александра Павловича, который Христа ради просил подаяния. Петербург в своих фантазиях всегда доходил до предела и не упускал случая презреть границы разумного. Казалось, что по обочинам тракта идёт оживлённая и бестолковая торговля.
К коляске Бошняка метнулся и поднял руку молодой прапорщик.
– Вам велено досматривать тех, кто едет из Петербурга, – сказал Бошняк.
– А вам откуда ведомо? – прапорщик захлопал белёсыми ресницами.
– Я же еду в Петербург, – терпеливо продолжил Бошняк.
– А где Петербург? – упавшим голосом спросил прапорщик.
– Рыбин! – крикнул стоящий на обочине с широкой запылённой грудью капитан. – Ну куда же вы?
Прапорщик понуро заспешил на обочину.
«А ведь прибьют же его, бедолагу. Как пить дать прибьют», – подумал о государе Бошняк и велел трогать.
– Вам бы, Рыбин, в кавалерии служить, – сказал капитан, провожая взглядом отъезжающую повозку. – Там хотя бы лошади думают.
«Уехать, уехать, уехать», – в такт дорожной тряске всплывало одно и то же слово. А и правда – уехать. Бошняк представил себя и Каролину в своём имении. Там, где время, должно быть, вовсе застыло. Любовь к женщине не терпит суеты, в ней необходимы размеренность, рутина, домашние хлопоты, привычные вечерние ритуалы, общие, самые пустяковые дела. Бошняк вдруг понял, что почти не знает книг о любви. Всё, о чём пишется в романах и стихах, – это не любовь, а не имеющая продолжения страсть. Это пожар в лесу, после которого остаются лишь обугленные стволы и до черноты закопчённые лисьи тушки.
Огромный и запущенный дом камердинера стоял на Крестовском острове. Пройдя по тёмной дорожке под густыми ветвями клёнов, Бошняк увидел покосившееся резное крыльцо, молоток на двери. Поднявшись по рассохшимся ступеням, постучал.
Открыл сам хозяин, худощавый человек лет шестидесяти с редкими кудрями на лысеющей голове. Казалось, он сделан из того же дерева, что и дом.
– Ты Егорыч? – спросил Бошняк.
Егорыч посторонился, дал пройти. Настороженные глаза его будто думали вместо хозяина.
– Je me souviens de toi encore enfant. Tu étais dans le corps des pages sous l'empereur Paul [35].
– Отчего же ты меня запомнил? – спросил Бошняк.
Егорыч улыбнулся:
– В то время пажам было предписано косицы свои на проволоку крутить. Так вот, у всей ребятни они как велено закручены были, а ты свои всегда рожками ставил.
Тонкий луч падал из оконца. В углу, под чёрным Спасом, мерцала лампада. На бревенчатой стене колыхалась от сквозняка карта Санкт-Петербурга.
– Пажи императора Павла любили, – не приглашая Бошняка сесть, Егорыч прошёл к столу. – Он вас сладостями, как птичек, с рук кормил. Жаль, что больше никто его не любил.
Егорыч сел за стол на промятую, набитую соломой подушку, что лежала на скамье, скрестил на груди руки.
На столе остывал самовар. Стояли на треть пустой штоф, стопка. Рядом лежал кирпич, скатерть была покрыта мелко раскрошенной скорлупой орехов.
Бошняк сел напротив, провёл ладонью по столу.
– Поминаешь? – спросил. – Сколько ж поминать должно?
– Я при Александре Павловиче всю жизнь камердинером, – ответил Егорыч. – Стало быть, всю жизнь и поминать.
– Всё один поминаешь? – спросил Бошняк. – Может, заезжал кто в последнее время?
– Кому я теперь надобен? – подобрался Егорыч.
– Сидишь ты всегда на одном месте, – сказал Бошняк. – Орехи колешь. От них с твоей стороны стол рябой, а с моей – гладкий. Значит, здесь ты не сидишь.
– И что с того? – усмехнулся Егорыч.
– А то, что след тут свежий от второй стопки.
Бошняк провёл пальцем перед собой по круглому засохшему отпечатку:
– Смотри.
– Был у нас слуга Макарка, – не проявив интереса, сказал Егорыч. – До чего ж расторопный! Ему, бывало, крикнешь: «Макарка!», а он уж всё исполнил. Одна беда – болтал да вопросы спрашивал.
Егорыч взял кирпич и, не рассчитав, разбил орех в пыль.
– Вот он как-то возьми да гречневой кашей и подавись.
Бошняк покачал головой:
– Ты сейчас мне угрожаешь или за свою жизнь опасаешься?
Следующий орех Егорыч раздавил пальцами, отделил похожее на мозг ядрышко от разбитой скорлупы:
– Я каши не ем.
– Долго ли перед смертью Александр Павлович болел?
Егорыч жевал орех.
Бошняк ждал.
– Эти вопросы уже полгода как задать следовало, – наконец сказал Егорыч.
– Хорошо, – сказал Бошняк. – Я передам это государю. Что ещё?
Вроде просто сказал с участием, но Егорыч понял, что говорить следует немедля. У каждого лакея есть чувство хозяина. Оно проявляется, когда лакей видит перед собой человека сильнее его.
– Болел недели три, – сказал Егорыч. – Сроду не болел. А тут вдруг как будто все болячки про него вспомнили.
Егорыч вздохнул, повозил пальцем посреди ореховой скорлупы.
– Когда по Крыму на конике гарцевал, продуло. Шинельку-то надо было сразу мехом подбить. А он… Императоры – они же все как дети балованные. Выпусти такого к нормальным людя́м – не посмотрят, что… всея Руси, и так накостыляют, что ни одна корона потом не налезет.
– Что за недуги государь испытывал?
– Ну как… – Егорыч пожал плечами. – Болело у него то в одном боку, то в другом… то живот. Опять же, тошнило… Сердце то стучит, то колотится. И тоже болело.
Егорыч говорил, а глаза думали.
– Что ж у него – всё болело? –