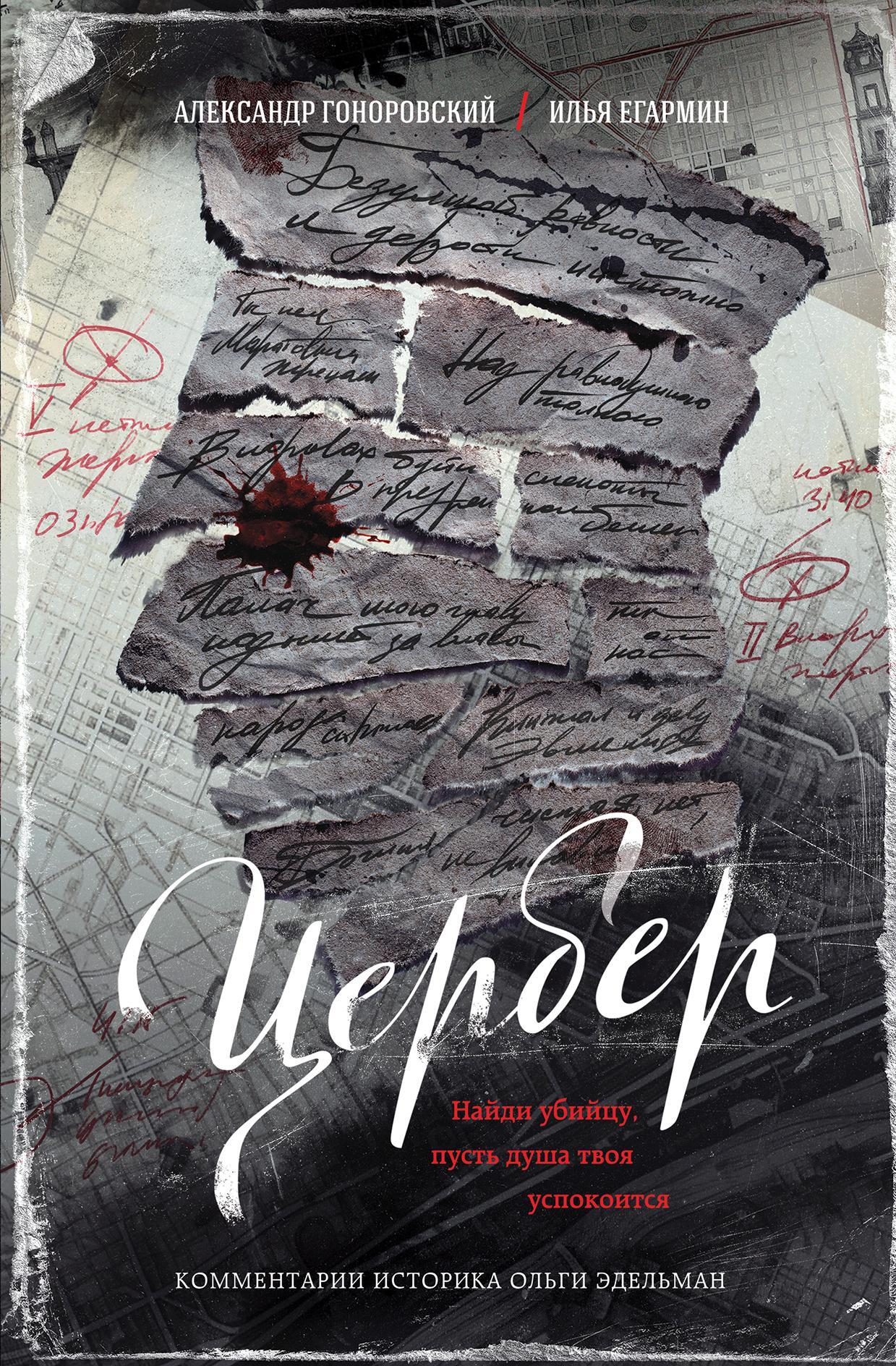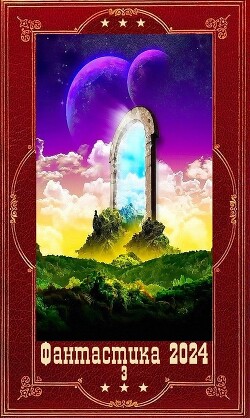один, развернул. Пыжи были не газетные, а из писчей бумаги, с аккуратными каллиграфическими буковками с обеих сторон.
– …ын Тро… – прочитал Лавр Петрович.
Второй ищейка с пониманием кивнул.
– Так вы сказали «ынтро» – я и кивнул.
Первый ищейка пошёл вон из комнаты.
– Да чтоб не таких комаров, как в прошлый раз! – крикнул вдогонку Лавр Петрович.
– …ын Тро… Может быть, «сын Трофимов»? Бумага дорогая. Не просто писарь на ней писал. Среди писарей следственной комиссии поискать надобно…
– Их же там табун, – сказал первый ищейка.
Лавр Петрович отвечать не стал. Ему было приятно, что загадка оказалась не столь для него сложна.
– Я и не знала, что такие добрые бывают.
август 1826
Бошняк без труда нашёл флигель, где помещался лазарет доктора Пермякова. На лестнице было почти тихо – сумасшедшие уже не спали, но шумел за стенами пока лишь один. Вскинув руку к потолку, он декламировал, вселяя в собратьев своих беспокойство:
Раты ратым тара па параБасым парыма тарапа!
Бошняк поднялся и ступил в широкий, залитый утренним светом коридор, пошёл на звон инструментов. Дверь в операционную была приоткрыта. В просторной комнате, невзирая на солнце, горели яркие масляные лампы, сияли стальные зеркальные пластины.
На столе без сознания лежал пациент с распухшей, почерневшей от гангрены ногой. На полу валялась грязная, в пятнах крови штанина.
Доктор с закрытым тканью лицом склонился над пациентом. Рядом стоял санитар с большой деревянной колотушкой.
– Доктор Пермяков? – спросил Бошняк.
– Говорите быстро, – отозвался Пермяков. – Мне некогда.
Бошняк подошёл. Доктор сделал надрез над коленом пациента. Кровь и гной попали Бошняку на сапог.
– Оперировали вы некоего Ушакова? – спросил Бошняк.
– Не помню, – ответил доктор. – Что с ним?
– Пуля во лбу, – сказал Бошняк. – Я у главы лечебницы справился. На такие операции вы один решаетесь.
Пермяков отложил нож, опустил руки в загноившуюся рану.
– Не помер ещё? – спросил.
– Бегает, – сказал Бошняк.
– На перевязку не пришёл. Я думал, помер.
Доктор взял пилу и посмотрел на Бошняка.
– Если после операции выжил, то обездвиживание его в ближайшее время неизбежно. Омертвение мозга прогрессирует. Наукой процессы сии мало изучены. Я ему порекомендовал дела свои в порядок привести. Так он дал понять, что у него всего одно дело осталось. Я ещё подивился, что дело только одно.
– Вы уверены, что дело одно? – спросил Бошняк.
– Любой врач точность любит.
Пермяков приставил пилу к ноге пациента, надавил. Пила легко вошла в ногу. Кровь потекла по столу.
Бошняк пошёл вон из кабинета.
– Окажите любезность, – крикнул ему вслед доктор. – Если отловите, попросите его завещать тело своё нашей лечебнице.
Пациент, не приходя в сознание, завозился, застонал.
– Успокой, – кивнул Пермяков санитару.
Тот ударил больного колотушкой по голове.
Выйдя из флигеля, Бошняк остановился, несколько раз глубоко вдохнул, взял извозчика:
– На Вознесенский. Да гони – не спи!
Чумной с похмелья извозчик испуганно стегнул лошадь. Глядя на залитые солнцем фасады домов, Бошняк почувствовал, что дурнота отступила. Всё-таки изучать «Анатомию человеческого тела в 105 таблицах, изображённых с натуры» Говерта Бидлоо [34] было гораздо проще.
Угрюмый, будто только снятый с виселицы лакей проводил Бошняка в приёмную. Бошняк опустился в кресло, вытянул ноги и принялся рассматривать потолок, на котором раскинулся праздником «Страшный суд». Святой Варфоломей с ножом в одной руке и содранной кожей в другой был обстоятелен и ироничен.
За дверью послышались мягкие шаги. В комнату, запахивая халат, вошёл Бенкендорф. Бошняк всё ещё смотрел на потолок.
– Любезнейший Александр Карлович, – позвал Бенкендорф. – Надеюсь, вас привели безотлагательные дела?
Бошняк поспешно встал:
– Ушакова упустил.
– Вот тебе, бабка, и Юрьев день, – произнёс Бенкендорф. – Инвалида поймать не можем.
– Есть ещё одно, – сказал Бошняк.
Он достал из жилетного кармана бумажку, развернул. В бумажке лежал потрёпанный серый лепесток.
– У него в комнате под кроватью нашёл.
– Что это?
– Лепесток розы, – Бошняк бережно расправил лепесток пальцем. – Завял немного.
Бенкендорф поглядел с недоумением.
– Сейчас лето, – сказал он. – Этих лепестков по всему Петербургу набросано.
– Посудите сами, ваше превосходительство. На последние деньги, по словам Натальи Николаевны Зубовой, Ушаков заказывает для себя новый мундир. Врач Пермяков только что сообщил, что Ушаков торопится и, боясь в скором времени умереть, собрался осуществить какое-то единственное важное для него дело. А этот лепесток говорит, что за цель Ушаков для себя выбрал.
– Что же за цель, Александр Карлович?
– Государь, ваше превосходительство.
Бенкендорф сел в кресло, не торопясь положил руки на позолоченные подлокотники.
– Как же вы из лепестка такой вывод сделали? – наконец спросил он.
– Это лепесток розы Альба, – сказал Бошняк. – Жену государя её величество императрицу Александру Фёдоровну в семье при Прусском дворе именуют Белой розой. Это её цветок. Альбу высаживают исключительно в Петергофе и в садах Царского Села.
Бенкендорф в задумчивости постучал пальцами:
– Вот тебе и стишки. Ямбы-блямбы…
Он встал и пошёл из комнаты:
– Буду готов через минуту.
По дальней дорожке Царскосельского парка строем бежал взвод солдат. Через каждые пять метров один из них останавливался и, вытянувшись, замирал.
Государь Николай Павлович и генерал Бенкендорф прогуливались по аллее. Бошняк держался в двух шагах позади.
– Новый мундир, лепесток розы, стихи… – произнёс государь. – Вам не кажется, что всё это… довольно легкомысленно?
Император обернулся к Бошняку:
– Какую же строчку он для меня приготовил?
– …воспрянет наконец. Отечества рыданье… – не сразу ответил Бошняк.
Николай с пониманием кивнул:
И час придёт… и он уж недалёк:Падёшь, тиран! Негодованье…Воспрянет наконец. Отечества рыданьеРазбудит утомлённый рок.
– Ваше величество, – Бенкендорф прервал его задумчивость. – Пока вам следует меньше бывать на людях.
– Государю бояться смерти не пристало, Александр Христофорович, – произнёс Николай. – Впрочем… Монархи российские потихоньку отвыкают помирать своей смертью. Печален пример отца моего императора Павла.
– Брат ваш старший Александр Павлович сей участи избежал, – заметил Бенкендорф.
Николай с сомнением покачал головой:
– «Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер в Таганроге». Тоже Пушкиным писано. Мало ему ссылки… Но ещё, – государь не торопясь подбирал слова, – мне было доставлено письмо, намекающее на отравление Александра Павловича.
– Письмо, конечно, было без подписи? – спросил Бенкендорф.
Государь кивнул.
– Правда, Яков Васильевич Виллие, личный медик его, предположение об отравлении не подтвердил. Но ответил весьма туманно – про какую-то жидкость в мозгу…
– Отчего же, ваше величество, не сделали подозрения свои достоянием следственной комиссии? – спросил Бенкендорф.
– Не желаю оглашения подобных традиций в нашей семье, – проговорил государь. – Лишь безмерное доверие к вам позволило мне высказаться.
Бенкендорф был в курсе всех перипетий, связанных с убийством отца Николая и Александра – Павла Первого. Участники его не скрывались. Многие продолжали служить при дворе. Они не выступали публично. Но разговоры, намёки, тайные мемуарные записки… Табакерка у виска императора. Шарф на его шее. Бенкендорфа же всегда интересовало не само убийство, а тот последний ужин Павла. За ужином он сидел рядом со своим престолонаследником Александром Павловичем и мило, по словам очевидцев, о чём-то с ним беседовал. Александр