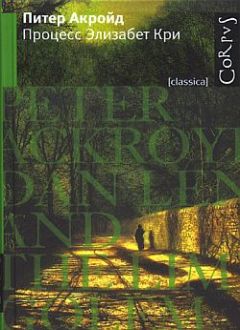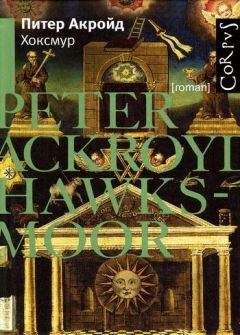Я доехал в кебе до Олдгейта, а оттуда прошел пешком до Рэтклиф-хайвей; перед домом, где произошло великолепное убийство, стоял полицейский, и рядом на улице собралась кучка зевак, не имеющих иной цели, кроме как поглазеть и пошушукаться. Я присоединился к ним без колебаний и с удовольствием убедился по их речам, что эти люди проникнуты бесконечным уважением и восхищением.
— Ни единого звука, чик — и все, — сказал один. — Они и понять-то ничего не поняли, а уж горло перерезано.
Это было не совсем верно: мать и дети успели увидеть, как я поднимаюсь по лестнице; но само это преувеличение достаточно знаменательно.
— Как пить дать невидимка, — шептала женщина собеседнице. — Придет, уйдет, а никто и не заметит ничего.
Мне хотелось поблагодарить ее за лестный отзыв, но, конечно же, снимать шапку-невидимку перед ними было нельзя.
— Скажите мне, пожалуйста, — спросил я одного странного типа с повязанным вокруг головы красным шарфом, — крови много было?
— Ведрами лилась. День целый потом все мыли да скребли.
— А что с этими несчастными? Куда их теперь?
— Да на кладбище, на Уэллклоус-сквер, куда же еще. Одна могила на всех. — Судя по тому, как округлились у него глаза, он хотел мне сообщить еще кое-что. — А знаете, что сделают с этим Големом, когда его найдут?
— Если найдут.
— Зароют на перекрестке дорог. А в сердце кол засадят.
Это выглядело едва ли не как распятие, но я знал, что в старину так расправлялись с изощренными преступниками; что ж, пусть лучше это, чем быть прикованным цепями к речному берегу и медленно гнить под действием приливов. Бескрайний Лондон всегда придет мне на помощь в беде.
Я вернулся к себе в Нью-кросс и вечером слушал, как жена играла на пианино новую мелодию Чарльза Дибдина.
Всего лишь через несколько часов после того, как Джон Кри листал эссе Томаса Де Куинси о пантомиме, полицейские детективы, явившись на дом к Дэну Лино задать ему вопросы относительно убийства семьи Джеррардов на Рэтклиф-хайвей, увидели в гостиной у знаменитого комика произведение того же автора — «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств». Однако Лино ни в малейшей мере не испытывал влечения к смерти — напротив, эта тема внушала ему чрезвычайный страх, и наличие книги Де Куинси в его доме имело куда менее очевидную причину: оно объяснялось его восторженным интересом к Джозефу Гримальди, самому блестящему из клоунов восемнадцатого века.
История пантомимы занимала Дэна Лино еще с той поры, когда его слава в мюзик-холлах только набирала силу; «самого смешного человека на свете» влекло к себе то, чему он, можно сказать, был обязан своим существованием. Он коллекционировал старые афиши и такие памятные вещицы, как костюм Арлекина из «Триумфа радости» и волшебная палочка из «Магического круга». Конечно, имя Гримальди было ему известно с самого начала — через сорок лет после смерти этот клоун все равно считался самым знаменитым из всех, — и одним из первых купленных Лино театральных сувениров стал цветной эстамп, изображающий «прославленного клоуна мистера Гримальди в популярной новой пантомиме о Матушке Гусыне». По словам одного из современников, Гримальди был «самым поразительным человеком своего времени», потому что он «во все, что делал, вкладывал огромный смысл». Эта характеристика понравилась Лино, когда он впервые ее прочитал, потому что ее можно было отнести и к нему самому: для него тоже сыграть роль означало, по его собственным словам, «вдуматься» в персонаж во всей его полноте. Недостаточно было нарядиться Сестрицей Анной или Матушкой Гусыней — нужно было ими стать. Лино также оценил знаменитую историю о визите Гримальди к врачу во время гастролей в Манчестере; в нем уже были заметны признаки нервного истощения, которое в конце концов свело его в могилу, и врачу хватило одного взгляда на лицо бедняги, чтобы произнести свое заключение. «Могу вам посоветовать только одно, — сказал он. — Сходите посмотрите на клоуна Гримальди».
Но помимо этого Дэн Лино мало что знал о своем великом предшественнике, пока за несколько недель до описываемых событий по совету «ходячего справочника» не наведался в библиотеку Британского музея.
Там, порывшись в каталоге под громадным куполом, он обнаружил «Мемуары Джозефа Гримальди» под редакцией Боза. Лино был если не высокообразованным, то по крайней мере достаточно начитанным человеком — он часто повторял, что его школой был дорожный сундук, — и он знал, что Боз был не кто иной, как покойный Чарльз Диккенс. Это обстоятельство его порадовало, потому что он давно восхищался изображением людей театра в «Николасе Никльби» и «Тяжелых временах»; однажды он даже виделся с великим писателем — труппа выступала в «Тиволи» на Веллингтон-стрит, и после представления Диккенс зашел к нему за кулисы со словами благодарности. Диккенс всю жизнь был любителем мюзик-холлов и видел в Дэне Лино некое яркое воплощение своего собственного невеселого детства.
Конечно же, Лино немедленно заказал мемуары и провел целый день, читая историю жизни Гримальди. Голый и орущий будущий клоун явился на свет Божий восемнадцатого декабря, за два дня до даты рождения Лино, и кто может сказать, под счастливой или несчастливой звездой оба артиста пришли в этот мир. Оказалось, что Гримальди родился на Стэнхоуп-стрит в Клэр-маркете в 1779 году и впервые вышел на сцену в три года; совсем недалеко оттуда прошло младенчество Дэна Лино, который тоже дебютировал трех лет от роду. Итак, выявилось родство душ. С ощущением подъема и воодушевления Лино занес в свой блокнот описание излюбленного костюма Гримальди — белый шелк с разноцветными пятнами и полосами; Гримальди, обычно бессловесный на сцене, выражал свое настроение, указывая на символизирующий его цвет. Лино целиком переписал сцену между клоуном «обжорой» и клоуном «пропойцей», а затем и слова самой знаменитой и популярной песенки Гримальди «Рыбешки горяченькие»; он даже запомнил несколько фраз из прощальной речи клоуна, обращенной к лондонским театралам: «Четыре года прошло с тех пор, как я совершил мой последний прыжок, цапнул мою последнюю устрицу, сжевал мою последнюю сосиску. Я теперь далеко не так богат, как тогда, потому что, как иные из вас могут помнить, имел обыкновение держать курицу в одном кармане, а подливку к ней в другом. Сорок восемь лет протекло над моей головой, и я быстро иду на дно. Я теперь хуже стою на ногах, чем раньше стоял на голове. И вот сегодня я в последний раз надевал клоунский костюм, а когда я снимал его несколько минут назад, мне почудилось, будто он сросся с моей кожей, и бубенчики на старом колпаке, расставаясь со мной навсегда, прозвенели похоронным звоном. Выше головы не прыгнешь, леди и джентльмены, и поэтому я должен поторопиться сказать вам: „Прощайте. Прощайте! Прощайте!“» После этих слов, как пишет Диккенс в сноске, его под руки увели со сцены. Дэн Лино подумал, что это самая замечательная речь из всех, какие он читал или слышал, и под куполом библиотеки он вновь и вновь повторял ее про себя, пока не затвердил наизусть. Тихо шепча эти слова, он думал обо всех бедных и обездоленных на улицах города, о беспризорных детях и семьях, лишенных крова; ибо Гримальди на склоне дней, казалось, заговорил от их имени и стал их утешителем. Лино припомнил эту речь позже, лежа на смертном одре; тогда он произнес ее громко и отчетливо, слово в слово, а те, кто стоял у его постели, решили, что он бредит.
Но в тот весенний день 1880 года он видел только блеск и великолепие гения Гримальди. Он особо отметил замечание Диккенса о том, что «его Клоун являл собою воплощенный образ его самого», и подумал, что писатель нащупал здесь свойство, которым обладает и он, Лино; прочитав затем, что Гримальди был «подлинный фигляр — гримасничающий, ворующий, неотразимый, ускользающий Клоун», он без всякого высокомерия или гордыни почувствовал, что воистину стал наследником славного артиста. Была ли тому причиной необычная близость дат рождения или, может быть, сама атмосфера Лондона, который породил их обоих и в котором оба существовали, — факт тот, что Гримальди и Лино были необычайно схожи в своем юморе и в самой сути сценического образа. Конечно, Гримальди чаще всего был Арлекином, а Лино — Дамой (хотя и Гримальди иногда играл женские роли, самой знаменитой из которых была баронесса Помпсини в «Арлекине и Золушке»), но характеры и ухватки их персонажей во многом совпадали. Оба артиста произросли на одной почве; и, выйдя теплым лондонским вечером из Британского музея, Лино решил пройтись пешком до Клэр-маркета, где родился Гримальди.
Это была все та же грязная, безалаберная, назойливая мешанина лавок, переулков, доходных домов и питейных заведений (двадцатью годами позже, однако, сметенная «мероприятиями по благоустройству» и прокладкой улицы Кингсуэй); в год смерти Гримальди Диккенс охарактеризовал эту часть города в «Записках Пиквикского клуба» как «скопление плохо освещенных и еще хуже проветриваемых жилищ», от которого поднимались испарения, «как из гнилостной ямы». Свернув на Стэнхоуп-стрит, Лино принялся гадать, в котором из домов родился Гримальди; но все они были неказисты и похожи один на другой, и великий Клоун мог появиться на свет в любом из них.