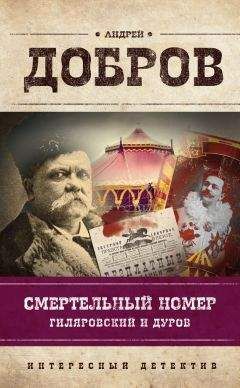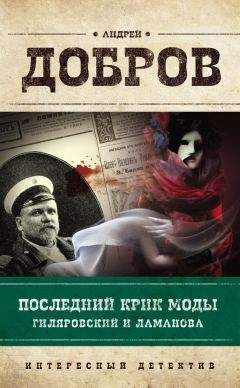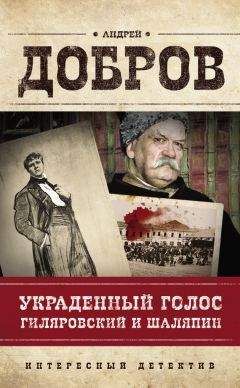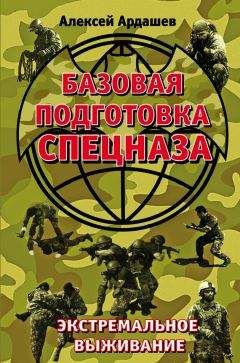Действительно, в руках у карлика был небольшой сверток синей бумаги, в которую обычно заворачивают сахарные головы.
– Пыж?
– Номинальный. Рассчитывали так, чтобы ленты не летели далеко, а падали бы на зрителей. В первый раз не рассчитали заряд и попали прямо в директорскую ложу. Представляете – оркестр смолк, а из ложи медленно так поднимается Альберт Иванович – весь в разноцветных лентах. Публика просто сошла с ума от хохота! С тех пор я лично насыпаю порох.
Я обратил внимание, что дуло циркового орудия действительно смотрело в сторону директорской ложи.
Ванька в этот момент запихнул мягкий снаряд в дуло и взвел механизм спуска.
– Неужели кремневый замок? – спросил я.
– Нет, конечно, капсюльный. Кремневый ненадежен. Ну, извините, я еще немного поработаю. Вы тут останетесь или уйдете?
– Я уйду. Только скажите, во сколько сторожа закрывают двери на замок?
– Парадный вход – после выступления. А служебный за час до полуночи, но там всегда сидит сторож, и если очень надо войти, он откроет. А что?
– Нет-нет, ничего. Просто интересно.
Дуров подмигнул мне.
– Не советую, – весело сказал он, – цирковые дамы очень непостоянны!
Я смутился. Мне ведь даже не пришло в голову, что этот вопрос вызовет подобную реакцию. Торопливо распрощавшись, я вышел.
И вот он наступил – последний день девятнадцатого столетия. Конечно, Москва принарядилась по такому случаю. Извозчики вплели в гривы своих лошадей елочную мишуру и разноцветные ленточки. У лавок и магазинов стояли воткнутые в сугробы, наряженные елочки, а в витринах даже при свете пасмурного дня тускло сияли разноцветные фонарики – где из стекла, а где просто бумажные. Дворники лениво скребли лопатами мостовые, мечтательно представляя себе, как будут обходить квартиросъемщиков с поздравлениями с непременным подношением рюмочки и пирожка на закуску. На улицах не было видно продавцов газет – редакции закрылись на праздник. Исчезли лоточники и зазывалы – москвичи заранее запаслись всем необходимым. К тому же большинство собиралось эту ночь провести в ресторанах и трактирах – если Рождество было семейным праздником, то Новый год по традиции старались встретить в шумной компании. Потому все столики были уже заранее заказаны, хотя и в этот день находилось много несчастных нерасторопцев, обивавших пороги всевозможных заведений. Но повсюду они встречали неприступных швейцаров, категорически и важно заявлявших: «Местов нет».
И я все прошлые годы своей жизни в Москве встречал Новый год в ресторанных залах, украшенных целыми морями свежих цветов, гирляндами, елочными ветвями, пахнувшими лесной свежестью, под стук шампанских пробок и веселые крики друзей. И еще никогда не бывал на новогоднем представлении в цирке.
Весь день, помнится, я вяло сидел в кресле, потом немного прогулялся по бульварам, вздремнул на кушетке. С Машей мы договорились, что она пойдет к сестре – все равно я буду занят и не смогу уделить ей решительно никакого внимания.
Я не заметил, как она ушла. Чем ближе был час представления, тем сильней овладевала мной апатия. И вовсе не из-за дурацкого обещания, данного Архипову, – сейчас я думал о нем исключительно как о глупости, произнесенной в сердцах. И уж, конечно, не собирался стреляться в случае, если вдруг мои выводы обернутся трагической ошибкой. Когда стемнело, я встал и начал прохаживаться вдоль шкафов, проводя пальцами по корешкам книг и папок, которые с трудом умещались на полках. Вдруг мои пальцы коснулись небольшой серебряной коробочки – табакерки. Два года назад я под влиянием Маши, казалось, навсегда избавился от вредной, по ее мнению, привычки нюхать табак. Но в этот момент мне вдруг неудержимо захотелось заправить в нос щепотку, а то и две крепкого табаку. Поколебавшись, я откинул крышку и разочарованно посмотрел на пустое донышко табакерки. Ну, конечно! Я же сам и высыпал его в помойное ведро два года назад, а потом отдал Маше, чтобы она вымыла ее и поставила в шкаф.
Табаку захотелось еще сильней.
Наконец я сдался, сунул табакерку в карман пиджака и пошел одеваться в прихожую.
Табак я купил в лавке напротив дома генерал-губернатора. Взял сразу полфунта фабрики Габай – не лучший товарец, но на безрыбье и рак – щука. И тут же заправил в две ноздри по гигантской понюшке этого зелья. Голова тут же поплыла, ноги чуть не подогнулись, да и весь я сам чуть не упал, чихнув чуть не на всю Тверскую, не успев даже откопать во внутреннем кармане платок.
– Будьте здоровы, барин, с наступающим, – подал голос извозчик, сидевший в санях у тротуара.
Поблагодарив, я сел в сани и попросил меня немного покатать по предпраздничной Москве. Однако скоро тревога так сильно меня одолела, что я вышел у Божедомки, неподалеку от квартиры Дурова, и отпустил извозчика.
Я стоял под снегом и медлил, растягивая эти последние минуты покоя перед тем, как снова оказаться в цирке, где праздник был омрачен тревогой.
Однако минуты шли. Медлить больше было нельзя. И я зашагал вперед – будь что будет!
– Дядя! Дядя! Дай четвертак за так ради праздника!
У ржавеющей высокой ограды, ранее окружавшей блистательный «Эрмитаж» Лентовского, а ныне частью покосившейся, а частью растащенной ушлыми нищими, стоял мальчонка лет одиннадцати, замотанный серыми тряпками, с потрепанным треухом на голове. Я остановился и посмотрел на него. Снег лежал на треухе, на плечах мальца, но он не обращал на это никакого внимания. Простуженным высоким голосом он заученно повторял свою просьбу. Я вынул из кармана пригоршню монет и бросил в его ладонь. Кулак с монетками тут же скрылся в тряпках – согреться.
– Что, братишка, на калач собираешь?
– На водку! – честно сказал ребенок.
– Себе?
– Тяте.
– А что, тятя тебя из собранного ничем не одарит на праздник?
– Не-а. Нажрется и спать завалится.
Я порылся в карманах и выудил еще монетку.
– На, купи себе. Только отцу не отдавай.
– Спасибо! – равнодушно поклонился мальчик и в нетерпении оглянулся – со стороны Селезневской улицы подходила компания хорошо одетых дам. Вероятно, маленький бродяга боялся, что я задержусь возле него с разговором слишком долго и он пропустит новую возможность выпросить деньги.
Я не стал его разочаровывать и пошел дальше – к Цветному бульвару.
С Садовых в сторону цирка сворачивали сани с парами. Я смотрел на них и вспоминал давешнего паренька – вот тут бы, в толпе цирка, ему выпрашивать. А впрочем, нет… Взбудораженная публика, толпившаяся у дверей, наверное, и не заметила бы оборвыша. В шуме голосов его сип был бы не слышен. Да и в ярком свете фонарей лохмотья мальца выглядели бы уж совсем не по-праздничному, напоминали бы о том, что совсем неподалеку в совершенно нечеловеческих условиях ютятся тысячи людей, многие из которых сейчас спят, нисколько не думая, что наступившая ночь – последняя в девятнадцатом столетии. И что впереди – неизвестное страшноватое будущее с железными аэростатами, дальнобойными пушками и невесть какими потрясениями.
Потрясения эти ощущались немногими. Но мне, с напряженной ожиданием душой, грядущее вдруг показалось не тем златокудрым мальчиком с открыток. А вот таким маленьким нищим, закутанным в тряпки, мерзнущим на пустой улице у покосившейся ржавой ограды некогда пышного, блиставшего разноцветными огнями сада, ныне превратившегося в укрытые снегом развалины.
Я не стал пробираться через толпу в главный вход, откуда доносились громкие звуки оркестра, по такому случаю сошедшего со своего балкона над манежем в шум толпы. Обойдя здание, я вошел с заднего входа, кивнув дремавшему дворнику. Он сидел на низком табурете, прислонившись спиной к стене, закутавшись в овчинный тулуп и вытянув ноги в больших валенках, с галош которых уже натекла порядочная лужа на крашенные коричневым доски пола. Шума толпы отсюда было не слышно, зато раздавались громкие голоса униформистов, топот ног и встревоженный рык хищников в зверинце справа. Слева заржало несколько лошадей – животные чувствовали скорое начало работы.
Я шел по широкому центральному коридору, в котором теперь ярко горели все лампы – никакого экономного полумрака. И чем ближе я подходил к манежу, тем меньше места оставалось в коридоре – везде были сложены части декораций и аппарата для номеров. Я и не предполагал, как много их задействовано в сегодняшнем представлении! У стены стояли длинные решетчатые секции, которые собирали в узкий туннель до зверинца – по нему на сцену выводили тигров и львов, чтобы хищники не набросились случайно на артистов или обслуживающий персонал. У самой кулисы сложили фермы решетки – оградить манеж во время номера дрессировщика. Рядом стоял полуразобранный муляж огромного дома-будильника. Наверное, по мысли режиссера представления, с которым я так и не успел познакомиться из-за всей этой чехарды с черепом на афишах, в нем жители будущего и должны были встречать новый век. Неподалеку толпились униформисты вокруг высокого шпрехшталмейстера с роскошными черными усами. Я заметил и знаменитый дуэт Бим-Бом. Они тихо сидели на стульях. Бим зажал между коленями палку метлы с натянутой толстой струной и меланхолично поглаживал ее длинными пальцами пианиста-виртуоза. Их уже раскрашенные лица ничего не выражали. У Бома из уголка рта торчал окурок погасшей сигары.