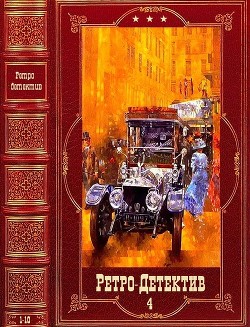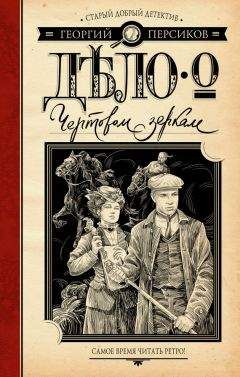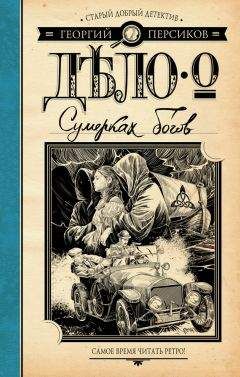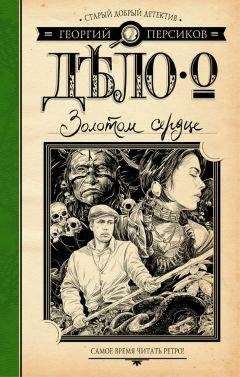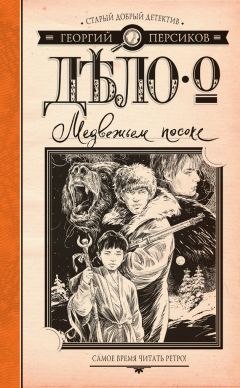этот великий дар!
Муромцев поднялся, осторожно подошел к двери и резко дернул ручку. Дверь открылась, и внутрь ввалились двое полицейских. Они с виноватым видом поднялись и скрылись в коридоре. Муромцев невозмутимо прикрыл дверь и обратился к Бубушу:
– Господин полковник, я надеюсь, что конфиденциальность допроса будет соблюдена и показания подозреваемого не станут достоянием гласности через четверть часа, а то и раньше.
– Разумеется, Роман Мирославович!
Побагровевший Бубуш выскочил в коридор и устроил выволочку не успевшим ретироваться подчиненным. Вернувшись в кабинет, он машинально налил себе воды в тот же стакан, из которого пил Чакалидзе, взял его, замешкался и поставил обратно на стол. Затем подошел к писарю, взял протокол и пробежал его глазами.
– Ага, так. То есть вы признаете, что ненавидели зрячих людей из-за вашей слепоты?! Хорошо, – не дожидаясь ответа, продолжил полковник. – А почему вы на своих полотнах изображали эти разноцветные огромные глаза?
– Ну как вам объяснить? Всякий художник пишет то, что его волнует и беспокоит. Мой источник вдохновения – глаза. Они зеркало души и вселенной, в них вся жизнь людская, моя жизнь. Как бы точка отсчета моей души, – художник говорил спутанно и взволнованно. – И разные цвета – это разные миры, в которых они обитают, из которых приходят ко мне. Да что я вам рассказываю? Вы все равно ни черта не понимаете! Палачи! Тупые слепые палачи! Это вы слепы! А не я! Я знаю, вы теперь меня ослепите!!!
Чакалидзе вдруг поднялся, звеня цепями, сжал кулаки и продолжил:
– Когда у меня были эти радужные видения, то я и голоса слышал! Это они мне приказывали глаза рисовать. Я не мог не подчиниться, это было выше моих сил! Я был сам не свой в такие моменты. Только представьте, художник берет кисти и, как по наитию, пишет картины, образы, посланные ему свыше! – Чакалидзе, разволновавшись, стал говорить о себе в третьем лице. – Вот он подходит к зеркалу, смотрит на себя и приходит в ужас: лицо его, искаженное, как балаганная маска, трескается на куски и падает к ногам! И чувствует, что весь мир рушится! Он только пытался собрать головоломку, словно калейдоскоп из этой цветной мозаики и осколков!
Бубуш удовлетворенно крякнул и посмотрел на Барабанова:
– Что ж, Нестор, твоя правда насчет разноцветных глаз!
Барабанов сиял, как новенькая копейка. Ему была приятна похвала от самого полицмейстера. Толкнув отца Глеба локтем в бок, он прошептал:
– А ведь это явная шизофрения, отец Глеб. Я имею в виду зеркало и разбитое отражение. Что думаете?
Отец Глеб проигнорировал вопрос и посмотрел на Муромцева. Тот стоял у окна, смотрел на серое дождливое небо и, казалось, вовсе не интересовался происходящим.
– Все сходится! Вот вы и попались, любитель глаз людских! Небось эти голоса и убивать заставляли? – заключил полицмейстер, потирая руки. – Подводя итог всего вышесказанного, делаю предварительное заключение о вашей виновности! С этого момента вы арестованы. Вашу дальнейшую судьбу определит суд!
– Суд?! – воскликнул Чакалидзе. – Ваш суд, впрочем как и вы сами, не в силах понять высшее предназначение моего дара! Впрочем, делайте как знаете, мне плевать на вас и ваш суд.
Он успокоился, снова сел на стул и принялся рассматривать хитрые наручники, криво ухмыляясь.
Бубуш бросил на него гневный взгляд, достал из кармана синий платок и вытер испарину со лба. Подойдя к писарю, похлопал его по сутулой спине и сказал:
– Ну-ка, чернильная душа, дуй за караулом, пусть арестованного назад в камеру уведут.
Писарь кивнул, схватил в охапку бумаги и опрометью выбежал из кабинета под хохот полицмейстера. Бубуш, не обращая внимания на художника, открыл шкаф и достал графин с рюмками на подносе.
– Господа, – сказал он торжественно, – не желаете ли выпить? У меня есть отличный французский коньяк! Берегу его для таких случаев!
– Видно, давно он у вас там стоит, – с сарказмом заметил Муромцев.
Полицмейстер налил в рюмку коньяк и поднес ее сыщику:
– Дорогой Роман Мирославович, неужели вы сомневаетесь в виновности этого демона в людском обличье? Я, например, нисколько! Бросьте ваши сомнения, дело закрыто! Мне лишь остается поблагодарить вас и вашу прекрасную команду за помощь в раскрытии этих ужасных преступлений.
Муромцев взял рюмку и понюхал коньяк – он действительно был неплох. Тем временем в открытую дверь вошли трое жандармов. Двое взяли Чакалидзе под руки и повели к выходу. Уже в дверях он вдруг повернулся и плюнул на пол.
– Ах ты, морда! – крикнул один из жандармов и толкнул его в сторону двери. – А ну, пошел!
Третий конвойный вышел следом за ними с револьвером в руке.
Роман Мирославович проводил их взглядом и залпом выпил коньяк.
После пары рюмок Бубуш засобирался с докладом к губернатору, а Муромцев с отцом Глебом и Барабановым отправились в свой кабинет.
Роман Мирославович устало сел в кресло и посмотрел на отца Глеба:
– Вот и все. Преступник за решеткой, и нам здесь более делать нечего.
– Роман Мирославович, но ведь…
– Прошу вас, оставьте меня. Езжайте в гостиницу, собирайте вещи. Нестор, можно дать вам последнее поручение?
– Конечно, Роман Мирославович, что угодно!
– Узнайте, голубчик, когда ближайший поезд до Петербурга?
– Сейчас же узнаю, я мигом!
Барабанов и отец Глеб ушли, и Муромцев тут же погрузился в тяжелые раздумья. За окнами стемнело, и тени от качающихся веток деревьев устроили дикую пляску на полу и стене кабинета, погруженного в полумрак. Из головы никак не выходили слова князя Павлопосадского о невиновности того инженера-пьяницы с железной дороги. Но как князь мог знать об этом? И кто или что заставило несчастного железнодорожника оговорить себя?
Он вызвал в памяти детали того дела: как сначала задержали местного колдуна и как тут же отмели версию с ритуальными жертвоприношениями. А потом он встретил отца Глеба, который был проездом в Петрозаводске и вызвался отпеть невинно убиенных. Тогда же, сидя за столом в гостях у местного батюшки отца Феофана, отец Глеб и озвучил новую версию о костяных шпалах, поведав о душевнобольных, которые таким странным образом стараются исправить реальность. И Муромцев поверил, что уложенные на мостках кости – это своеобразная «железная дорога».
Роман Мирославович встал и принялся встревоженно расхаживать в темноте, потирая лоб рукой.
– Не может быть, – бормотал он, – а что, если…
Казенная карета, запряженная чалой лошадкой, неспешно ехала по центральной улице Энска. Пар из ноздрей лошади вырывался, словно из трубы паровоза. В салоне, мерно покачиваясь, сидели Муромцев, отец Глеб и Барабанов. Тягостное молчание прерывалось лишь лихим посвистом возницы и недовольным фырканьем лошади. Муромцев смотрел на запорошенную снегом