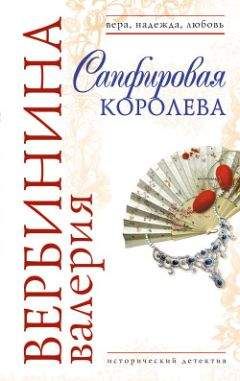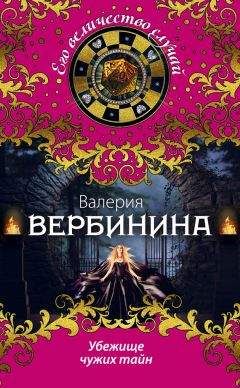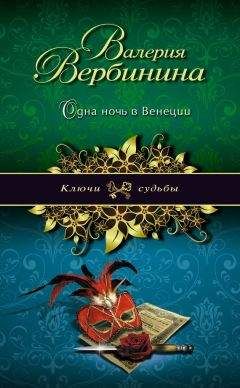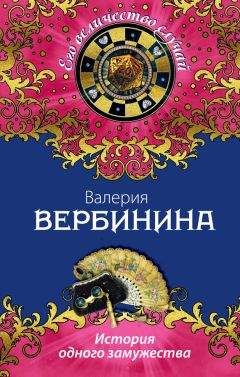– Ожерелье в сейфе, – солгал Груздь. – Надеюсь, вы вернете мне ту тысячу, которую я вам дал. Следуйте за мной, пожалуйста. – Ростовщик пожал плечами и как бы про себя прибавил: – Хотя мне странно, с чего вдруг вы стали во мне сомневаться. С этим саквояжем я всегда хожу по городу и никогда не думал, что он только для дороги.
– Ладно, ладно, заговаривай мне зубы! – вскинулась Пульхерия Петровна.
Груздь тяжко вздохнул, как человек, на которого возводят напраслину, вновь отворил дверь и придержал ее, давая пройти Половниковой.
– Прошу… Обождите минуточку, сударыня, я сейчас. Деньги у вас с собой?
Хозяин лавки аккуратно затворил дверь, поставил саквояж на пол и двинулся к облупленному несгораемому шкафу, стоявшему возле конторки.
– Забирай свои деньги, ирод! – крикнула Пульхерия Петровна, бросая на прилавок сверток с тяжело звякнувшими золотыми.
– Право же, сударыня, к чему так ругаться… – вздохнул Груздь, возясь с замком.
Дверца скрипнула и подалась. По правде говоря, сейфом Груздь пользовался крайне редко – всем в городе и так отлично было известно, что ждет того, кто попытается ограбить вроде бы беззащитного старика.
– Ну? – спросила Пульхерия Петровна нетерпеливо. – Где мое ожерелье?
– Вот оно, – ответил ростовщик.
И в следующее мгновение супруга следователя увидела направленное на нее дуло револьвера.
Женщина не успела не то что возмутиться, а даже открыть рот, чтобы крикнуть «караул!». Груздь выстрелил.
Ему показалось, что грохот от выстрела был такой сильный, что его услышали даже у гавани. Однако наружу донесся только громкий хлопок, который при желании легко можно было принять за вылетевшую из бутылки шампанского пробку.
Пульхерия Петровна накренилась, покачнулась и завалилась на бок. По ее груди расплывалось красное пятно.
Груздь брезгливо сморщился. Ростовщик не любил убивать и теперь страдал, что отъезд из города омрачен столь скверным происшествием. Само собой, его никто не отыщет, он примет меры, но вынужденное убийство не на шутку расстроило.
Мысли бежали стремительно. Пожалуй, лучше всего будет спрятать труп в погреб, чтобы его не сразу нашли, это поможет ему выиграть время…
– Дорогая!
Ростовщик вздрогнул и поднял голову.
На пороге стоял господин Сивокопытенко. Он щурился – настолько сильным был переход от яркого солнца к полумраку старой лавки.
– Дорогая, – спросил Сивокопытенко, – ты уже забрала…
Тут он увидел жену следователя на полу, увидел туфлю, слетевшую с ее ноги, револьвер в руке Груздя – и все понял.
Груздь тоже понял: если он сейчас даст уйти свидетелю – все, конец, его схватят, посадят, и остаток дней ему придется провести на бессрочной каторге.
Сивокопытенко поспешно сделал движение назад, и ростовщик, не колеблясь более, выстрелил снова.
Сивокопытенко взвизгнул каким-то тонким, почти женским голоском и упал, но, и раненный, он пытался выползти из лавки и позвать на помощь. Тогда Груздь подбежал к нему и добил выстрелом в голову, после чего расстроился окончательно.
Ростовщик убрал револьвер, оттащил труп начальника только что овдовевшего следователя от двери и поволок к погребу, но на полпути устал и бросил. Кроме того, поглядев на дородную Пульхерию Петровну, он понял, что скорее умрет, чем дотащит ее до подвала. Помимо всего прочего, у него просто не было времени.
Переступив через труп Сивокопытенко, Груздь направился туда, где оставил свой саквояж, подхватил его и вышел, тщательно заперев за собой дверь. Убедившись, что никого поблизости больше нет, старик размахнулся и забросил револьвер в кусты (поскольку в те времена криминалистика пребывала в зачаточном состоянии, ростовщик мог не беспокоиться об отпечатках пальцев, о существовании которых тогда никто не подозревал).
Свернув на улицу, Груздь увидел извозчика, на котором подозрительная Пульхерия Петровна – на горе себе – вернулась со своим любовником. Извозчик ждал господ, которые обещали скоро вернуться, но Груздь успокоил его словами, что заплатит вдвое, и велел как можно быстрее отвезти себя на вокзал.
А тела так и остались лежать в лавке, куда несколько раз стучались бедняки, по привычке пришедшие заложить вещи. Но табличка на входной двери гласила: заведение закрыто, и, повздыхав и потомившись, а также помянув про себя недобрым словом заезжую даму, которая установила в их городе совсем уж невыносимые порядки, посетители уходили домой.
Меж тем заезжая дама (вернее, исполняющая ее роль горничная Дашенька) отбивалась от комплиментов полицмейстера, который возносил хвалу ее красоте, ее душевным качествам, а также украшающим ее бриллиантам. Поблизости находился и маэстро Бертуччи, и каждый раз, когда де Ланжере выходил на новый виток беспардонной лести, у маэстро почему-то так и чесались руки его прирезать.
А напротив гостиницы «Европейская», в заведении Розалии Малевич король дна держал военный совет. Содержательница борделя уже донесла ему о том, что Рубинштейна не удалось перетянуть на их сторону, а Вася пересказал свой разговор с баронессой Корф.
Выслушав их, Хилькевич задумался.
– Может, пришьем игрока? – небрежно предложил граф Лукашевский. – А то он больно дерзок, по правде говоря.
– Пришить ума не надо, – проворчал Хилькевич, насупясь, – вот вернуть обратно будет трудновато.
Это были слова из какой-то пьески, в которой он когда-то играл главного злодея. Впрочем, кроме данной реплики, в пьесе не было ровным счетом ничего занимательного.
– Где Груздь? – спросил король дна.
Жорж ответил, что за Груздем посылали два раза, но он как сквозь землю провалился – лавка заперта, и никто изнутри не отзывается.
– Мозет, он вообще збезал? – предположил Вань Ли в порыве вдохновения.
– Макар Иваныч-то? – буркнул Пятируков. – А с чего ему бегать?
Вань Ли ничего не ответил, съежился и сунул руки в широкие рукава своей китайской одежды.
– Повтори-ка еще раз свой разговор с баронессой, – потребовал Хилькевич у Васи.
И Херувим повторил, что Амалия по-прежнему требовала выдачи Валевского и драгоценностей, что их ультиматум не произвел на нее никакого впечатления и что дама считает, будто они покрывают поляка, который с ними поделился.
– Интересно, – буркнула Розалия, – почему она уверена, что парюру спер именно Валевский? Ведь вроде нет никаких доказательств.
– Она сказала так: «Его работа, совершенно точно, можете даже не сомневаться», – подал голос Вася. Солнце зажигало в его волосах золотые нити, и молодой человек был в то мгновение столь хорош, что королева борделей поглядела на него и, не удержавшись, вздохнула.
– А ты что скажешь, Жорж? – неожиданно спросил Хилькевич у ее спутника. – Можешь даже в рифму.
Сутенер поднял голову. В его глазах мелькнуло удивление – прежде король дна никогда не интересовался его мнением.
– Я полагаю, мы толком ничего не знаем, – проговорил он. – И можем строить любые теории по поводу этой истории. Может, баронесса ищет драгоценности в самом деле и считает, что мы мешаем ее цели. А может, ее цель совсем в другом, но мы-то тут при чем? В конце концов, мы жили мирно, вели себя смирно, почти никому не мешали и место свое знали. А если мешали, зачем присылать к нам даму из столицы, когда достаточно одного приказа? Для Петербурга мы не те лица, с которыми станут церемониться сразу.
Пятируков открыл рот.
– Складно врешь! – только и мог выговорить он. – Ей-богу, складно!
– Ты повторяешь ее слова, – вздохнул Хилькевич. – И ты хочешь, чтобы я им поверил?
– В чем-то Жорж прав, – буркнула Розалия. – Зачем мы Петербургу, в самом деле?
– Вы забываете пло плиезд оцень высокого лица, котолое долзно сколо появиться в насем голоде, – неожиданно подал голос китаец.
– Что? – Граф Лукашевский озадаченно нахмурился.
– Вань Ли, – медленно проговорил Хилькевич, – так ты имеешь в виду…
– Приезд царя, – закончила за него Розалия. – Так что, они решили к монаршему визиту очистить город от нежелательных граждан? – У мадам вырвался смешок, но, не ограничившись им, она витиевато выругалась.
Хилькевич театральным жестом воздел руки к потолку, разрисованному аляповатыми Венерами и Марсами.
– Ну надо же! – И вслед за тем ухитрился выругаться еще более замысловато, чем его соратница.
Граф Лукашевский выронил тросточку, которая со стуком упала на пол. Вася заморгал глазами. Пятируков глазами не моргал, а лишь одобрительно уронил «о…».
– Господа, – вмешался Жорж, который, похоже, один сохранил хладнокровие, – можно много кого послать по матери, но мы все-таки говорим о российском императоре. Каждый имеет право на свое мнение, но все же – чуть больше уважения. Мы как-никак честные воры и сутенеры, а не какие-нибудь бомбисты и террористы.
Граф Лукашевский поморщился. Будучи польским дворянином, хоть и самозваным, он считал, что имеет право относиться критически к российскому самодержцу. Впрочем, в данный момент его куда больше занимало другое.