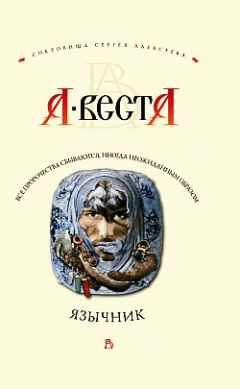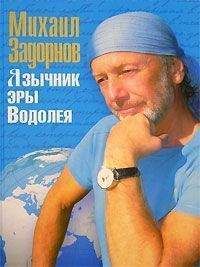Увидев, что я немного окреп, старуха принялась кроить из оленьих шкур малицу мехом внутрь и порты мехом наружу. Шкуры сняли с верхнего яруса чума, где они уже основательно прокоптились, потемнели и стали непромокаемыми. С тех пор дымный запах чума стал моим собственным, он навсегда впитался в меня вместе с рисунком татуировки.
Весь день и ночь Айога и Тайра портняжили у очага. Старуха ковыряла шкуры кривой иглой из рыбьей кости, Тайра тачала что-то вроде сапог, скрепляя мех оленьими жилками. Когда я натянул на себя пушистые шаровары, потуже затянув на пупке тесемки из жил, адская боль ужалила между ног, словно в одном из швов Айога забыла свою костяную иглу. Я скакал у очага и выл проклятия, силясь стянуть с себя пыточный мешок. Из полога высунулись заспанные физиономии Айоги и Тайры. Ничего не понимая, они принялись потешаться надо мной. Наконец, я нащупал у себя в портах что-то вроде булавки и со страшными ругательствами выдернул из гульфика косточку, заточенную наподобие стрелы. В бешенстве я швырнул ее в очаг. Теперь настала очередь женщин вопить и метаться. Айога полезла в костер, ее волосы задымились. Тайра, одной рукой придерживая огромный живот, другой пыталась вытянуть старуху за пятку. В дыму, суматохе и отчаянном женском визге мы едва не своротили чум. Оказалось, я совершил непоправимое: сжег «силу Седна», моржа, отца всех иле. Этой интимной косточкой природа снабдила моржа для продолжения рода, но еще и для того, чтобы прославить его подвиг выживания в ледяных широтах. Как заправский половозрелый иле, я должен был предварительно вынуть моржовый талисман из готовых штанов и всегда держать его при себе для пущей плодовитости. Теперь все было кончено; деликатный подарок обуглился в очаге, а я навсегда лишил себя помощи могучего моржового племени.
Сильные морозы ушли ко времени родов Тайры. Я читал, что северянки рожают легко, сидя на корточках и почти всегда в одиночестве. Но Тайра была слишком молода. Ей, наверное, было лет шестнадцать. Всю ночь она часто и беспокойно дышала, вставала и металась по чуму, было видно, что ей не хватает воздуха. Старуха не спала, молча наблюдала из своего угла, посасывая пустую трубку. Потом выползла, покряхтывая, раздула огонь в очаге и повесила на крюк котелок, набитый снегом. На рассвете Тайра успокоилась, оделась и вышла из чума к оленям. Было слышно, как воет ветер и вздрагивает чум от его ударов. Тайра вернулась. Она шла, с трудом переставляя ноги, на пимах краснела свежая кровь. В ее меховом подоле барахтался черноволосый, лохматый, как медвежонок, младенец. Синеватая пуповина через подол тянулась к ребенку и все еще пульсировала, прогоняла тугие комки. Тайра опустилась на пол спиной к опоре; котелок над огнем накренился и расплескал пар. Старуха вынула ребенка из подола и положила на оленью шкуру, между ног матери.
Через полчаса старуха вынула из вороха шкур нож, вернее, неровную серебристую пластину, ловко обрезала жгут пуповины и завязала грубым тугим узлом. Не отерев от белого утробного жира, старуха завернула визжащего младенца в шкуру, подняла с пола меховой конверт и сунула в руки Тайры. Ребенок почуял запах молока, судорожно впился в мать, но старуха не дала ему насытится, отняла младенца, разложила тело Тайры на полу, освободила от одежды, уселась на ее опавший живот и принялась прыгать. Тайра терпела, но ее прокушенные до крови губы почернели. Страшная наездница что-то заунывно пела. Ее песня прерывалась рычанием и стоном Тайры, обезумев от боли, она изо всех сил принялась колотить и царапать старуху. Айога подозвала меня и приказала удерживать Тайру за запястья. В чуме было почти темно. На мгновение она замерла над роженицей, развернулась назад и резко дернула за остаток пуповины. В руке старухи остался фиолетовый обрывок. В слабом свете догоравшего очага расширенные полубезумные глаза Тайры остановились на моем лице. Внезапно она обмякла и улыбнулась. Доверчиво ослабила свои руки.
– Уйди, старуха, – я силой согнал Айогу с живота Тайры. – Воды. Дай воды, Айога. – Я уже немного умел изъясняться на языке иле.
Старуха нехотя повиновалась. Подтащила котелок с водой. Я успокоил Тайру, дал ей попить, огладил ее измятый, крупно вздрагивающий живот.
– Успокойся, милая. Все хорошо. Ишь, какого красавца родила, – приговаривал я по-русски, и Тайра радостно слушала. Из темноты сияли ее красивые, ровные зубы.
Спрятав ужас, я пальпировал низ ее живота: плодное место не отделилось. Я не понаслышке знал, что проблемы с плацентой грозят сепсисом.
– Айога, дай «огонь-вода»!
По всей Новой Земле, от Колы до Аляски, водку зовут «огненной водой». Старуха яростно ощерилась беззубыми деснами: я покушался на заветное. По всему было видно, что она без боя не отдаст бутылку. Я схватил ее за костлявые плечи:
– Дай водку, не то задушу…
Старуха сломалась и покорно достала припрятанную литровую бутыль. Под ее вопли и жалобные причитания я вымыл свои руки «огненной водой». Я вслепую погружался в горячую, оплывающую кровью рану. Тайра забилась и, казалось, потеряла сознание. Через несколько мучительных минут я сумел ухватить скользкий комок и отделить его от мягких, отекающих кровью стенок. Вытащив пласт материнской плоти, я судорожно хлебнул водки и упал рядом с Тайрой.
Старуха подпихнула под Тайру охапку сухого мха, беззлобно отругала меня, отобрала водку и, завернув «детское ложе» в шкуру, вышла из чума. Едва стихло старушечье бормотание, за чумом бешеным лаем занялись собаки. Они в любой мороз лежали у порога, свернувшись упругими калачиками, но никогда не заходили в жилище, не клянчили пищи. Они умели находить пропитание в безжизненной тундре и всегда возвращались к человеческому жилью. Псы были волчьи полукровки, но с голубыми жестокими собачьими глазами. Они молниеносно поедали человеческие экскременты, поэтому вокруг чума всегда было чисто. Мне представилось, что проклятая старуха отдает плодное место собакам. Я затрясся в припадке, едва представил себе это.
Антипыч никогда не принимал роды в Бережках, там рожать было уже некому, но однажды он обмолвился, что послед нужно зарыть под порогом дома, там, где не ступает нога человека и зверя. Человек, связанный с землей и домом первой кровью и родовой плотью, никогда не забудет родины и эту кровную привязанность невозможно разорвать.
Айога вскоре вернулась. С собой она притащила целую шкуру снега. Она развернула спящего ребенка и принялась обтирать крохотное мохнатое тельце снегом. После она обтерла снегом живот и ноги Тайры. Освободившись от своих акушерских забот, она что-то бросила на тлеющие угли и принялась жарить, часто переворачивая «ножом». В чуме запахло горящим мясом. Оказалось, старуха жарила послед. Она силой заставила Тайру съесть большую часть, остатки съела сама.
Судя по летописям, славяне когда-то «ядаху» «женски извороги». Обычай, ужаснувший христианского летописца, был продиктован инстинктом сбережения плоти. Этот обычай родился в трудные времена, когда кусок мяса равнялся жизни. Так обряды, дикие и отвратительные с точки зрения цивилизации, часто оказываются единственно спасительными, а значит и вполне святыми.
На следующий день в чуме появилась маленькая люлька, стачанная из кусков бересты. Айога набила ее сухим мхом. Этот подстил заменял новорожденному подгузник. Оказалось, что Тайра родила девочку, а не мальчика, как сначала показалось мне. Имя ребенку пока не давали, из разговора я понял, что женщины ждали приезда Оэлена.
В эти дни с Айогой случилось небольшое трагикомическое происшествие.
Надо сказать, что Айога не была завзятой пьяницей и к заветному флакону притрагивалась крайне редко, так как в глубинах тундры пополнять запасы амброзии не представлялось возможным. К тому же Оэлен не поощрял ее увлечений, полагая, что это плохой пример для молодежи. Чтобы задобрить шамана, Айога с напускным благоговением опрыскивала костюм Оэлена водкой, кормила духов. Запомнив мое дерзкое обращение с «огненной водой», старуха решила спрятать от меня остатки своего сокровища. На вершинах сопок снег исчез раньше, и в тундровом покрове обнаружилось множество нор. В одно из отверстий Айога спрятала бутылку. Изредка она наведывалась к тайнику и, как истинный романтик процесса, в одиночестве прихлебывала водку мелкими птичьими глоточками, задумчиво глядя на весенние облака. В одно из таких посещений к ней подкрался бродячий сорк. Иле были уверены, что сорк, поймав женщину, непременно воспользуется ею, а после съест. Айога не собиралась сдаваться: со всей силы старушонка саданула бутылкой по медвежьему черепу. Удар такой силы не мог повредить зверю, но бутылка разлетелась вдребезги. Раскрытая пасть и глаза сорка оказались залиты сорокаградусной. От непривычных ощущений зверь сразу же отпустил Айогу, и она, полуживая от страха, побежала в стойбище. Сорк преследовал ее на заплетающихся лапах почти до дверей чума. Потом уселся на землю и обиженно заревел, вытирая залитые водкой глаза. Распробовав, он принялся поочередно сосать и вылизывать лапы. Войдя во вкус, он решил прекратить преследование добычи, хотя до нее было лапой подать, и вернулся на то место, где была пролита водка. Мы не спали всю ночь, готовясь к обороне, но сорк не возвращался. Не пришел он и на второй, и на третий день. Оказалось, медведь съел весь снег и мох вокруг бывшего тайника и напрочь забыл о легкой добыче. Извилистая цепь следов уводила в тундру.