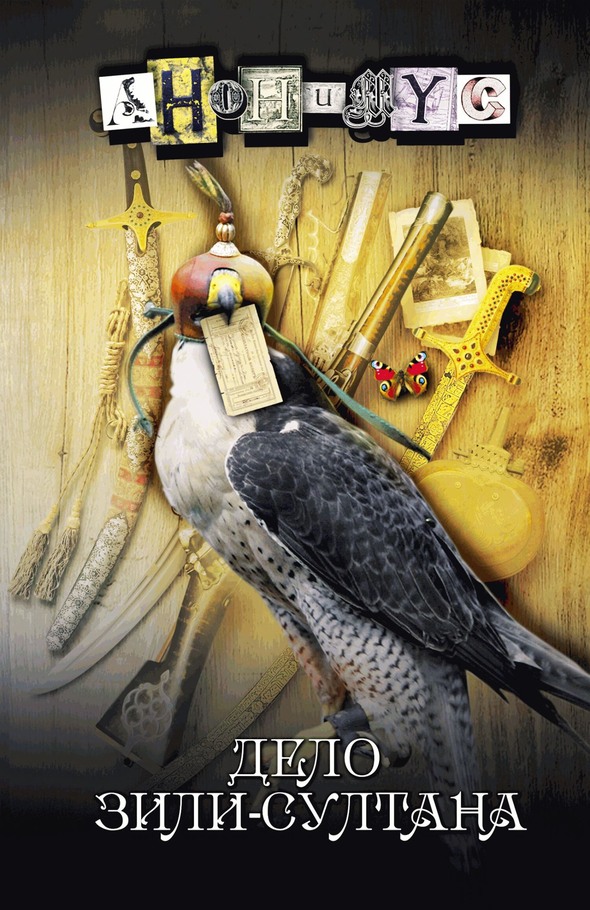было беспокоиться? От службы в полку Караваев меня освободил, шах думал, что я ищу ружье. Вопрос со шпионажем прояснился — пусть и частично. Меня немного удивляло, что куда-то запропал Ганцзалин, но это было вполне в его духе. Возможно, посмотрев на хозяина, он решил и сам устремиться к романтическим похождениям. Главное, чтобы его снова не отравили, на этот раз окончательно. Со всем остальным он вполне может справиться сам. В любом случае настроение у меня было необыкновенно беспечное, так что за Ганцзалина я не тревожился.
Глава десятая
Осквернитель гарема
Утро оказалось чудесным — солнечным, но свежим, Элен ластилась ко мне, как котенок. Вставать не хотелось, можно было валяться в постели хоть до полудня. Однако в дверь начали стучать. Думая, что это явился Ганцзалин, я отправился открывать сам.
Но это был посыльный. Он передал мне записку от Мартирос-хана, в которой была одна только фраза: «Не рассказывайте никому о вашем слуге».
Загадочная эта записка вызвала во мне понятное беспокойство. Поразмыслив, я решил отправиться во дворец, узнать, что произошло там за последние сутки. К тому же шах наверняка ждал меня с результатами моей детективной деятельности.
По дороге я ломал голову, пытаясь придумать, как мне теперь вести расследование о пропаже ружья. Точнее, как симулировать это расследование, потому что в эндерун, я понимал, мне хода нет. Да, в конце концов, ружье уже наверняка было где-то далеко, а проводить следственные действия в своем гареме шахиншах не позволил бы и архангелу Джибрилю.
Так ничего и не придумав, я явился во дворец. Меня удивила атмосфера какой-то нервозной суеты, которой были охвачены слуги и приближенные Насер ад-Дина. Но вскоре ко мне вышел сам царь царей, и все разъяснилось самым ужасным образом.
Оказывается, этой ночью какой-то негодяй осквернил гарем шаха Каджара. То есть не то, чтобы совсем осквернил, но пытался осквернить. Часов в двенадцать пополуночи какой-то евнух прокричал страже, что одна из жемчужин направляется в опочивальню повелителя. Евнух кричал с акцентом, но это никого не смутило: евнухов в эндерун набирали из самых разных стран, и некоторые до седых волос не могли избавиться от своего варварского произношения. После крика стража, как обычно, залегла носами в пол — и это несмотря на то, что накануне таким же точно образом было украдено фоторужье. Однако тут осквернитель допустил ошибку — он слишком долго не кричал, что жемчужина уже прошла и можно подниматься. Начальник караула заподозрил неладное, уточнил у караула повелителя, проходила ли мимо них жемчужина. Те отвечали, что нет, все было тихо. Тогда главный стражник позвал хаджи-баши, тот живо собрал своих молодцов, и они ворвались в гарем. Здесь и был обнаружен осквернитель. К счастью, ничего предосудительного он сделать не успел. Но и само проникновение в шахский эндерун было ужасным преступлением. Так что евнухи навалились на святотатца всей толпой и, хотя он отбивался как лев и нескольких покалечил, его все-таки спутали по рукам и ногам и передали страже. Схваченный оказался не персом и не иностранцем даже, а каким-то узкоглазым азиатом, скорее всего — китайцем. Правда, азиат не назвал ни имени своего, ни страны, из которой он приехал, но рано или поздно пытками из него вытянут все.
При этих словах мороз пошел у меня по коже.
Успокоив, как мог, шахиншаха и сказав, что его доблестная стража и еще более доблестные евнухи не дадут его в обиду никаким осквернителям, я покинул дворец.
Проклятье! Я был почти уверен, что осквернитель — это не кто иной, как Ганцзалин. Не далее, как вчера мы с ним говорили о том, что пропажа ружья — дело рук эндеруна. И вот, поняв это буквально, слуга мой решил сделать мне сюрприз: проникнуть в гарем и поискать ружье там. При этом, разумеется, меня он не предупредил. Уж не знаю, где он рассчитывал найти ружье — в постели, может быть, у одной из шахских наложниц. Однако могу сказать, что это был один из самых глупых его поступков, известных мне. Самое меньшее, что грозило ему теперь за проникновение в эндерун — отрезание ушей. Но, учитывая, что эндерун был не чей-то, а самого шаха Каджара, его могли попросту казнить одной из местных варварских казней. Представив, как мой Ганцзалин корчится на колу, я похолодел.
Теперь прояснился смысл записки Мартирос-хана. Если бы шах узнал, что слуга мой — азиат, подозрение пало бы и на меня.
Так или иначе, надо было спасать дурня, и я отправился к русскому посланнику.
* * *
Мельников выслушал меня озабоченно, но сказал, что помочь ничем не может. По персидским законам это слишком серьезное преступление, виновного могут и к смертной казни приговорить.
— Но вы должны заступиться, он подданный русского императора, — возразил я.
На это Александр Александрович мне меланхолично ответствовал, что Ганцзалин мой — не тот подданный, из-за которого Россия будет портить отношения с Персией. К тому же, заметил он, у шаха я имею больше авторитета, чем любой посланник. И, значит, вполне могу попросить за своего слугу сам, не прибегая ни к чьей помощи.
От такого ответа у меня потемнело в глазах. Положение оказалось даже хуже, чем я ожидал. Я, конечно, мог сам попросить за Ганцзалина, но тогда бы пришлось объяснять, что ему понадобилось в гареме шаха. Насер ад-Дин — человек оригинальный, но далеко не дурак. Попытки все списать на сладострастие моего слуги на него не подействуют: в распоряжении сладострастников куча других гаремов, не говоря уже про институт временных жен. Если шах задумается хотя бы на миг о том, кто я такой, недалеко до полного провала. Русский шпион, отправляющий своего слугу в гарем повелителя, вряд ли вызовет у шаха Каджара добрые чувства. Выбирая между благом отечества и жизнью моего помощника, я, разумеется, выберу Ганцзалина. Другое дело, что мое заступничество может и Ганцзалина не спасти, и меня поставить под удар.
Я ушел от посланника растерянный. По иронии судьбы я даже увидеть Ганцзалина не мог, ему в тюрьме запрещены было сношения с кем бы то ни было. Поэтому решения своей судьбы ждал он в полном одиночестве. Но все равно в каком-то смысле ему было легче: он знал, что я его не брошу и вытащу даже из преисподней. А вот я как раз не был в этом так уж уверен.
* * *
Дни шли за днями, недели за неделями. Мысль моя билась, как птица