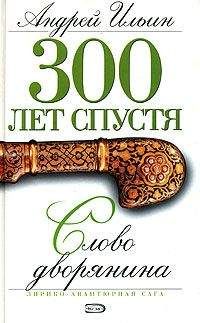Мишель совершенно растерялся. И Дзержинский, заметив это, не стал его томить, все тут же разъяснив.
— Верно — есть скупки на Пятницкой, в Китай-городе и кое-где еще. И то верно, что мы о них прекрасно осведомлены. Потому что это наши скупки! Да-да — наши! Мы создали их, дабы иметь возможность приобретать у мещан предметы антиквариата, имеющие художественную ценность.
«Их» скупки? То есть, значит, чекистские?.. Чекисты скупают у уголовников золото?..
— Согласитесь, если бы этого не сделали мы, то это сделал бы кто-то другой, — продолжил Дзержинский. — Свято место пусто не бывает. Вы, товарищ Фирфанцев, выследили нашу скупку. Да чуть ее не провалили! Ладно, наши товарищи не стали горячки пороть да в расход вас с досады не пустили!
Вот, значит, как?!
— Но ведь туда приходят уголовники, которые грабят мирных обывателей! — сказал Мишель.
— Да, они экспроприируют ценности у буржуазии, — согласился Дзержинский, — а мы реквизируем их у них, обращая в пользу государства. Кроме того, благодаря скупкам мы имеем возможность проникнуть в уголовный мир...
Да, верно — чего проще: не ловить фартовых в подземных катакомбах Хитровки, а сделать так, чтобы они приходили сами, да еще дружков-приятелей за собой приводили, а те — других! И так всех их, как ниточку из запутанного клубка, и повытянуть!..
Хитро придумано!..
— Как видите, я с вами вполне откровенен, — сказал Дзержинский.
Что Мишеля не радовало, а более всего и беспокоило. Так как свидетельствовало в пользу того, что коли с ним так откровенничают, то живым отсюда не выпустят...
— Теперь относительно вашего дела, — сказал Председатель ВЧК, поднимая исписанные листы. Мишелем исписанные.
— Вы оценили сокровища Романовых в миллиард...
— Не я, ювелиры, с коими мне пришлось общаться в ходе проводимого мной расследования, — внес поправку Мишель.
— Да, конечно, — кивнул Дзержинский, принимая оговорку. — Приведенная вами цифра показалась мне чрезмерной. Но... — поднял, заглянул в какой-то лист, где, верно, был список всех пропавших сокровищ, — ...специалисты уверили меня, что так оно и есть. Разговор действительно идет о миллиарде золотых рублей. Именно во столько оценено собрание драгоценностей дома Романовых.
И вновь испытующе поглядел на Мишеля. Но тот молчал.
— Должен признать, что вы более других сведущи в этом деле, и потому я бы хотел просить вас продолжить начатое вами расследование.
— Вы предлагаете мне работать в Чека? — не сдержался, улыбнулся Мишель. — Мне, бывшему полицейскому, служившему в сыскном отделении?!
— Нет, я не предлагаю вам работать в ВЧК, — ответил Дзержинский. — Вы будете служить, как и прежде, в экспортной комиссии при Горьком. Так будет удобней и вам, и нам, да и разговоров будет меньше. Служить вы будете там, но отчет держать перед коллегией ВЧК! Горького мы в наши с вами планы посвящать не станем. Так вас устроит?
Так Мишеля не устраивало. Одно дело — экспортная комиссия, пусть даже милиция, и совсем иное — Чека. Служить тем, кто его чуть было не расстрелял?..
Но кто бы его спросил!
— Что вам требуется для работы? — открыл блокнот Дзержинский.
— Мне бы людей, тех, что при мне прежде были, — сказал Мишель, в первую очередь желая вытащить из камеры Валериана Христофоровича и Пашу-матроса.
— Хорошо, подадите мне поименный список. Я распоряжусь. Что еще?
Боле ничего...
Дзержинский пододвинул Мишелю пустой листок и, макнув в чернильницу, протянул ручку.
— Прошу вас написать на мое имя расписку, что вы поставлены мною в известность о необходимости сохранения тайны нашего с вами разговора.
— А если я случайно проговорюсь? — спросил Мишель, беря ручку.
— Я надеюсь на вашу порядочность, потому что несу за вас персональную ответственность перед товарищами и партией... Впрочем, если вы по неосторожности либо злому умыслу сболтнете лишнее, то к вам применят самую суровую меру революционной законности, — все же предупредил Председатель ВЧК.
Отчего Мишель испытал не испуг, а лишь облегчение. Потому что раз грозят будущим расстрелом, значит, не станут расстреливать теперь!
— У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы или жалобы? — спросил, завершая беседу, Дзержинский.
— Есть, — сказал, набравшись храбрости, Мишель. — Офицеры там, в камере... Нельзя так...
— Как? — спросил, строго на него глядя, Дзержинский.
— Вповалку, без бани, без еды.
— Вы, господин Фирфанцев, в царских застенках не сиживали да на каторге не были, разве только гостем, — тихо ответил Дзержинский и тут же натужно, сотрясаясь всем телом, закашлял в кулак. — Нас там тоже не жаловали! Без бани, конечно, худо, да только где на нее, когда в стране разруха, дров взять?.. А что касается еды, то и мы на пайках не жируем. Баланда та из одного котла разливается, а что не каждый день — так и нам не каждый. Ничего — потерпят господа офицеры. Кто невиновен — тех скоро по домам распустим, там и помоются...
А что будет с прочими, кто перед советской властью грешен, Дзержинский не сказал. И так понятно было... Мишель развернулся и вышел из кабинета. В шкаф.
А из шкафа в приемную.
Да уж не арестантом, а тайным сотрудником ВЧК!
Вон как все странно обернулось!..
Звякнул замок.
Брякнула цепь.
Заскрипели пронзительно проржавевшие петли.
Поднялась, громыхнув, тяжелая, железом обитая крышка.
И будто солнце под землей взошло!..
Упал в яму яркий сноп света, высветив грязные углы, метнувшихся с писком во все стороны крыс да четырех узников, что сидели на земле, подле друг друга, колодками деревянными по рукам-ногам скованные.
Зажмурились узники от света дневного, что глаза их, ко тьме привыкшие, слепил, да будто ножом острым резал.
Сунулись в дыру головы стражников, с любопытством глянув внурь. Произнесли что-то по-персиянски, засмеялись, пальцами вниз указывая, да тут же скрылись. Но скоро вновь объявились и начали опускать деревянную лестницу. А лишь уперлась она в землю, стал по ней слазить, за перекладины цепляясь, человек.
А как слез, на дно ямы встав, огляделся да принюхался, брезгливо морщась и нос платком надушенным прикрывая.
Сумрачно в яме, душно и влажно от земли сырой, да нестерпимо нечистотами пахнет. Гниют здесь узники заживо, света белого не видя и трапезу свою скудную с крысами деля.
Глянули на гостя незваного, что совсем не похож ликом и одеждой на перса, а боле на европейца.
Поклонился тот да сказал, в полумрак глядя:
— Вот где свидеться нам пришлось!.. Здравствуйте, друг любезный Яков Карлович.
Так ведь это посол русский, князь Григорий Алексеевич Голицын!
Вскинулся было Яков, да назад тут же упал! Громыхнули цепи, что к кольям, в землю вкопанным, приклепаны были, а другой стороной — к колодкам деревянным.
— Здравствуйте, Григорий Алексеевич! Разглядел его князь да ужаснулся!
— Как же вы живете здесь?! — ахнул он.
— Живем покуда, — ответил Яков, улыбнувшись. Хоть улыбка его вымученной вышла.
— Ай-ай-ай!.. — запричитал, заохал сердобольный князь Григорий Алексеевич. — Что ж вы, друг мой любезный, натворили-то?! Ведь сколь раз говорил я, сколь предупреждал вас, чтоб не совались вы в дела, вам, по молодости вашей, неведомые! Так не послушались вы меня! И вот теперь как все обернулось-то!..
Слушает его Яков, а сам улыбается.
Да не тому, что князь говорит, а голосу его радуясь, что как привет со света белого для него звучит. Ведь уж не знают они, счет потеряв, сколь дней и ночей здесь, во тьме египетской, живых людей не видя, сидят. Страшную кару придумал для них шах, не казнив сразу, а велев бросить заговорщиков в яму земляную, да крышкой, железом окованной, прихлопнуть, дабы пред смертью помучились они во тьме и зловонии, заживо гния. Покачал головой князь.
— Чему улыбаетесь вы, Яков Карлович?.. Разве ж можно так легкомысленно?.. Ныне положение ваше самое отчаянное! Все связи свои мне пришлось употребить на то лишь, чтобы попасть к вам да поговорить с глазу на глаз!
И скажу я — что уж и не знаю, чем вам теперь помочь. Хочу просить о заступничестве государыню нашу императрицу Елизавету Петровну, да уж и послал депешу ей, но покуда депеша та до Санкт-Петербурга дойдет да пока обратно эстафетой доберется, боюсь, как бы уж поздно не было! Палачи шахские на расправу скоры!
Ныне Надир Кули Хан в поход отправился, отчего до времени расправу отложил. Да ведь вернется скоро!..
— И что тогда будет? — спросил, одного боясь, что голос его дрогнет, Яков.
Вздохнул посол.
— Положено вам, Яков Карлович, по законам персиянским, за содеянное вами на кол сесть али в масле кипящем сваренным быть живьем. Но одно твердо обещать вам могу — что до варварства сего я не допущу! И коли есть вы иноземный подданный, добьюсь я, чтобы вас предали смерти цивилизованной — обезглавив али повесив за шею в петле веревочной. Хоть и осерчал ныне на вас шах, да не захочет он пред государствами европейскими, кои послов здесь содержат, дикарем себя выставить.