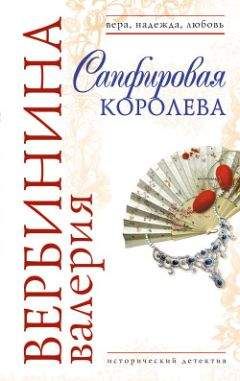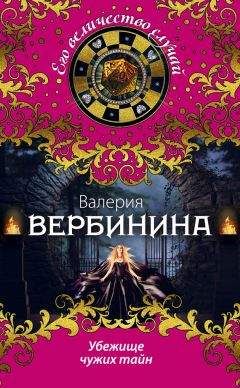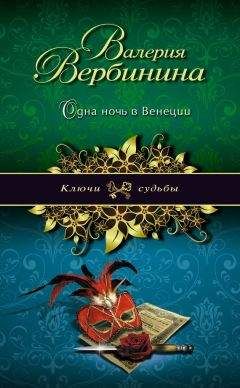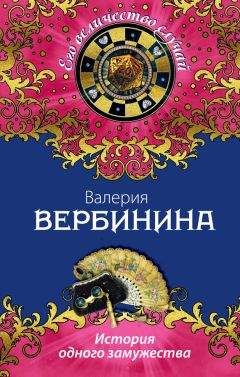– Чего ты от меня хочешь? – простонал старый вор, держась за поврежденную руку. – Скажи, чего?
– А ты думал, что можешь подставить меня, и я это забуду? – холодно спросил Валевский, забирая нож. – Что было в конвертах, которые лежали в сейфе де Ланжере?
Пятируков замотал головой и объявил, что не знает.
– Неверный ответ, – раздумчиво проговорил Валевский. – По-моему, ты хочешь лишиться второй руки.
Приспешник Хилькевича злобно покосился на него и забормотал:
– Бумаги… которые заставят власти вести себя тихо… А то совсем жизни не стало из-за этой… этой…
– Можешь не продолжать, – быстро отозвался Валевский, – я уже понял, о ком ты. Где те бумаги теперь?
Пятируков стал клясться, что понятия не имеет, но в конце концов сообщил, что бумаги Хилькевич забрал себе.
– Что за цацки? – поинтересовался Валевский, кивая на стол, на котором переливалось сапфировое ожерелье, которое Агафон не успел изувечить. – Жирновато для такого, как ты, по правде говоря.
– Будто ты не знаешь? – злобно скривил рот Пятируков. – Ожерелье из парюры. Оно было нас покинуло, да мы его того… вернули.
Валевский нахмурился. Показалось ли ему или на одном из камней темнела засохшая капелька крови?
– Да, да, – ухмыльнулся Пятируков. – Не стоило Груздю пить! Он мне выболтал когда-то по пьяни, где у него запасная хата, на случай, если все плохо обернется. Ну, пока все остальные прочесывали железные дороги и порт, я и отправился прямиком туда. Тяжело со стариком получилось, пришлось его пришить.
– Это Хилькевич приказал ожерелье искать? – спросил Валевский, и желваки на его скулах дернулись.
– Да. Груздь, олух, из-за него двух человек завалил и след оставил, – с отвращением объяснил Пятируков. – Вот дама к нам и прицепилась, мол, отдайте ожерелье, не то худо будет. А ты что, его вообще в первый раз видишь?
– Но не в последний, – спокойно проговорил Валевский и сунул ожерелье себе в карман.
– Ты этого не сделаешь! – вскинулся вор.
– Еще как сделаю, – ответил поляк, блестя глазами. – Нужно же мне моральное, так сказать, возмещение за то, что пришлось иметь с вами дело.
Поняв, что он вовсе не шутит, Пятируков разразился проклятьями:
– Сволочь! Ублюдок! Надеюсь, твоей девке мало не покажется, когда за нее наши возьмутся!
Валевский поднял голову.
– Ты о чем? – как-то тускло и неубедительно спросил он.
– А ты о чем думал? – взвизгнул Пятируков. – Ожерелье обнаружилось в городе, ты тоже тут был… ясное дело, и остальные предметы из парюры где-то поблизости. Может, ты у друзей своих их спрятал? У дурачка-библиотекаря или у Русалкиных, а?
Мгновение Валевский стоял неподвижно, но потом его обуяла такая ярость, что он кинулся на Пятирукова и стал бить каблуком по второй руке. Это было гнусно, это было отвратительно, но если бы он когда-то не дал себе клятву не мараться чужой кровью, он бы вообще убил Агафона.
Пятируков застыл на полу. Чувствуя ярость, отвращение, бешенство, Валевский двинулся к двери. Но, когда уже взялся за ручку, услышал смех. Старый вор, сидя на полу, смеялся, и от его смеха Валевский вздрогнул, переменился в лице.
– Дурак ты, Леон, ей-богу! Чистый дурак! Ты хоть подумал, к кому я сейчас пойду? Кому скажу, что ты все еще в городе? Да тебе повезет, если тебя быстро убьют, не мучая!
Он совершенно не боялся Леона, и это чувствовалось в интонации, в выражении лица, в ругательствах, которыми старый вор завершил свою речь. Валевский медленно обернулся.
– Я бы на твоем месте подумал сначала, как объяснить Хилькевичу, почему ты не сразу отнес ему ожерелье, а зачем-то пошел домой. И уже потом предпринимал бы дальнейшие действия.
Смех резко оборвался.
Чувствуя, что еще мгновение, и он вернется и все-таки прикончит Пятирукова, и до самой смерти будет на нем страшное пятно, от которого не отмыться никакими покаяниями, никакими молитвами, Валевский поспешно удалился.
А старый вор, охая и морщась, поднялся с пола. Ему было больно, но, по правде говоря, он больше изображал страдания, чем страдал по-настоящему. Да и руки у него были изуродованы не слишком сильно. Во всяком случае, Агафон был уверен, что через недельку-две он сможет, как и прежде, заниматься своим основным ремеслом.
Ругаясь, Пятируков достал с полки банку с целебной мазью, которая заживляла все раны в два раза быстрее, и тут за спиной у него скрипнула отворяемая дверь. Агафон резко обернулся – и вздохнул с облегчением:
– А, это ты… Черт, а я думал, Валевский вернулся.
– Он до сих пор в городе? – изумился вошедший. – Неужто совсем с ума сошел?
– Кажется, да, – угрюмо кивнул Пятируков. – Представляешь, я нашел Груздя, разобрался с ним и взял ожерелье, так варшавский молодчик у меня его отнял. Убить его мало, ей-богу! – Тут он заметил в руке собеседника какой-то сверток. – Что там у тебя, а?
– Да так, – ответил тот уклончиво, – птица.
– Курица, что ль? – спросил Пятируков, намазывая руку мазью.
– Нет, – ответил его гость. – Ворона.
Агафон в недоумении поднял голову… Но, увы, порой он соображал слишком медленно.
Тускло блеснуло узкое лезвие. Лампа опрокинулась и упала, и в полной темноте несколько секунд были слышны только возня и сдавленный хрип.
А потом наступила тишина, и в этой тишине было лишь слышно, как через несколько минут хлопнула входная дверь.
Когда луна заглянула в окно, Агафон Пятируков, мертвый, с раскинутыми руками, был распростерт посреди комнаты.
На его груди лежала мертвая ворона.
О том, как Пашка Семинарист учинил обыск и чем тот обыск завершился. – Герой, который всегда является вовремя, как и положено герою. – Странный вопрос баронессы Корф.В комнате разгром.
Разбитые очки Русалкина валяются на полу. Аполлон, сразу же ставший совершенно беспомощным, тянется за ними. Ухмыляясь, Пашка Семинарист наступает на очки ногой, и слышно, как хрустят стекла.
Наденька в ужасе жмется в углу. У нее одно желание – чтобы ее не видели, чтобы на нее как можно дольше не обращали внимания.
– Где брюлики? – спрашивает Семинарист у ее брата. – Цацки где? А?
Его подручные роются в шкафах, выбрасывают книги, переворачивают все вверх дном.
Русалкины стали легкой добычей незваных гостей. Женечка где-то припозднился – в последнее время он часто куда-то уходит, возвращается за полночь, – дома находились только брат с сестрой. Начитанный брат и романтическая сестра, которые совсем не были подготовлены к нашествию гуннов.
Русалкин лепечет, что ничего не знает, что он вообще не понимает, о чем идет речь… Семинарист делает вид, что хочет замахнуться. Аполлон смотрит на него с ужасом…
– Ну, говори! – глумится Семинарист. – Дом библиотекаря мы уже обыскали, там ничего нет.
– Боже! – вскрикивает Наденька, забыв о себе. – А что с Аркадием Ильичом?
Семинарист щерится.
– Повезло старику, его дома не было… Ну че? Где брюлики-то?
– Я ничего не знаю, – бормочет Русалкин. – Произошло какое-то недоразумение!
– Ага, недоразумение, что домой к тебе шлялся этот сукин сын Валевский, – хохочет Семинарист. – Нам все известно, учти!
– Какой Валевский, о чем вы? – стонет Русалкин.
– Он же Леонард Дроздовский, – поясняет Семинарист. – Знатный ворюга… Он вам украшения оставил на хранение? Или как? Лучше отдай их сразу, потому что мы все равно найдем…
К нему подходит здоровенный детина – один из его корешей, которые обыскивают остальные комнаты дома.
– Ну? – оборачивается к нему Семинарист.
– В спальне ничего, во второй спальне тоже. В сарайчике какая-то лаборатория – колбы, порошки, куски мыла… тоже мне, Брокар выискался… Нигде никаких следов цацок.
– Осторожнее! – стонет Русалкин.
Гунны выбрасывают из шкафа редкие старые книги, переплет у одной из них отваливается… Обманутый выражением его лица, Семинарист оборачивается, но понимает, что хозяин боится только за свою драгоценную библиотеку. Рожу Пашки перекашивает злобная гримаса.
– Ну ладно, – гундосит он. – Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому… Ишь какая сестра у тебя знатная, а?
Семинарист делает шаг к Наденьке.
– Не смей трогать мою сестру! – кричит Аполлон.
Наденька не успела даже испугаться. Где-то хлопнула дверь, кто-то закричал, и в комнату ввалился с порезанным, злым лицом Леон Валевский. Перед собой он волок одного из подручных Семинариста, совсем еще мальчишку с виду, приставив к его горлу нож.
– Тю! – дивится Семинарист. – Перо!
Его помощники застыли и стали переглядываться. Пашка подбоченился, чувствуя себя здесь самым главным, человеком, который будет вести переговоры и который уж точно не даст запудрить себе мозги.
Валевский дернул порезанной щекой. Ему явно было не так легко войти в дом, полный гуннов.
– Оставь их в покое, – проговорил он, и снова в его речи прорезался четкий иностранный акцент. – Они тут ни при чем!