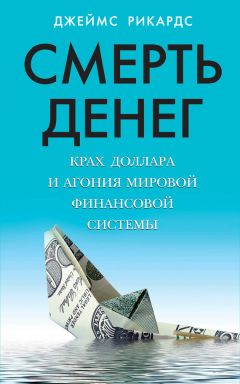– Он же в искусстве – во! – постучал Борис по столу костяшками пальцев. – Зодчий с большой буквы «зэ». С детства задолбал меня своей эстетикой. Я хорошо рисовал, он отдал меня в художественную школу, а потом сам порвал мои рисунки. Был дикий скандал. Я, видите ли, рисовал уродов. Он, гуманист, всю жизнь поклонялся красоте, а его сын рисует уродов. Трагедия! Он ненавидел Пикассо, потому что Пикассо, оказывается, презирал человека. А отец – нет, не презирал. Всю жизнь всем лизал жопы. В человеке же все прекрасно! Жопа в том числе…Твое счастье, что ты с ним никогда не жил. У него рубля не допросишься! Зарабатывал как поэт-песенник, а мать по пять лет в одном пальто ходила. Он все на книжку складывал. Завел десять книжек, прятал их по всей квартире. Теперь все сгорело, так Гайдар ему виноват, что холодильник плохо морозит. Мать еще при Брежневе просила у него денег на новый холодильник, не дал… Твоей-то матери он деньги давал?
– Само собой.
– Что-то не верится.
– Он регулярно переводил нам деньги! – отчеканил Жохов. – Мы с матерью ни в чем не нуждались.
– Рад за вас. Кстати, у него есть чему поучиться. Один его совет я запомнил на всю жизнь… Сказать?
– Давай.
– На ушко.
Отошли к окну.
– Я когда в университет поступил, – рассказал Борис, – мы дома выпили по этому поводу. Мать на кухню вышла, отец говорит: «Ты теперь взрослый, скажу как мужчина мужчине. Старайся не водить женщин к себе, а посещать их на дому. В собственной койке они как-то раскованнее»… Короче, у меня здесь такой возможности нет, а ты можешь переночевать у нее, – кивнул он на Катю. – В доме единственный приличный диван, в той комнате – топчан и раскладушка. Вдвоем не ляжешь, и от печки далеко.
– Надо меньше мяса есть, чтобы ночью ноги не мерзли, – посоветовал Жохов.
– Не понял.
– А то во сне член встает, одеяло стягивает.
– Я серьезно. Тут вот какое дело. Даже если вы уступите нам диван, мне здесь в любом случае ничего не светит. Виржини не может, когда мы с ней вместе, а в квартире еще кто-то есть.
– Можно подумать, – сказал Жохов, – сексуальная революция была у нас, а социалистическая – у них.
– Катюша, – обернулся к ней Борис, – мы тут обсуждаем проблему ночевки. Как вы смотрите на то, чтобы забрать Сергея к себе?
Последний раз она прибиралась, перед тем как пригласить на ужин того майора. Дома у нее был чудовищный бардак с морозоустойчивыми тараканами в придачу. Пришлось наврать, что АГВ не работает. Завтра придет мастер со станции, а сегодня ночевать там нельзя.
– Можете поехать в «Строитель», – предложил Жохов. – У них полно свободных номеров.
– Почему мы? Почему не вы?
– Ты же на колесах.
– Могу подбросить.
Борис достал из бумажника двадцатидолларовую купюру и, держа ее двумя пальцами за кончик, покачал другой конец, показывая, что расходы он берет на себя.
Впервые Жохов увидел настоящие доллары лет пять назад, у Марика. Особых чувств они тогда не вызвали, их час еще не пробил. Странно казалось, что Марик придает им такое значение. Банкноты были разного достоинства, он разложил их на столе, сличал президентов и говорил тоном человека, жалеющего о напрасно потраченной молодости: «Мы же росли полными идиотами, ничего не соображали! Что для нас был доллар? Девяносто копеек!» Имелся в виду курс иностранных валют по отношению к рублю. Раз в месяц его публиковали на последней полосе «Известий», в самом низу, рядом с погодой. Печатать чаще не имело смысла, рубль годами стоял, как скала, возвышаясь над долларом на девять, десять, а то и одиннадцать копеек, как вдруг, еще при Горбачеве, Жохов ночью ехал в такси и водитель предложил купить у него валюту по пятнадцать рублей за бакс. С той ночи мир вокруг начал стремительно меняться.
– Оставь мне свой телефон, – сказал Борис. – Про никель я помню.
Купюра в его пальцах продолжала раскачиваться с характерным ломким шелестом хлопковой бумаги. Так пускают волной веревочку, чтобы в нее вцепился котенок.
– Пошел ты со своим никелем! – рассвирепел Жохов.
На двухкомнатный люкс с холодильником, цветным телевизором и двуспальной кроватью почти как у Богдо-хана хватило бы и пяти долларов, но он знал, что если возьмет эти деньги при Кате, сегодня ночью ей придется работать с ним, как с глиной.
– Сережа, перестань! – испугалась она. – Действительно, пойдем в «Строитель».
– Да пошел он!
У Бориса сделалось непроницаемое лицо. Жохов схватил с окна его дипломат, смел туда со стола недоеденные продукты, надавил коленом, защелкнул замок и вышвырнул за дверь. В сенях сгромыхало, но Борис даже не поглядел в ту сторону.
– Завтра позвоню отцу, ключи от дачи ты больше не получишь. Это я тебе гарантирую… Одевайся, – велел он притихшей Виржини.
– Да, – благодарно кивнула она, – я немножко замерзла.
– Надевай куртку, мы едем в Москву.
– Я не хочу в Москву.
– Поехали, поехали. Там горячая вода, примешь ванну.
Расшитая лилиями дубленка полетела на диван. Одевшись, Виржини подошла к Кате и обняла ее.
– Я вас полюбила, Катя, – сказала она со своим ангельским акцентом. – Я чувствую, мы будем подруги.
Через пять минут пение немецкого мотора смолкло вдали. Идти в «Строитель» было лень, Жохов решил, что позвонит Гене с утра, подмигнул Кате и нажал клавишу магнитофона. Маленький цветок расцвел над развалинами дворца, нежный и печальный, как асфодель.
Эти цветы, вырастающие над погребенными в земле руинами древних дворцов и городов, в Италии попадались на каждом шагу, но не росли на Украине. Под землей тут была только та же земля, а на земле, под безоблачным августовским небом, убирали жито, сады стояли полные плодов, белые хатки в зарослях мальвы манили тишиной и покоем. Анкудинов почувствовал себя почти дома. Его переговоры с Хмельницким ни к чему не привели, казацко-трансильванский союз не заладился, но назад к Ракоци он не поехал и остался в Чигирине.
Итальянская жизнь поправила его здоровье, на вид никто бы не дал ему больше тридцати, а среди казаков, чьи отцы и деды в Смуту хаживали на Москву, какой-нибудь умник непременно вспомнил бы, что царь Василий умер сорок лет назад, поэтому Анкудинов назвался его внуком, а не сыном. Не стоило говорить и о том, что он дорогим гостем жил в Ватикане, причащался опресноками и припадал к стопам злейшего врага всего казацкого племени – римского папы. Теперь Анкудинов рассказывал, как в разных государствах, через которые он проезжал, короли, князья и герцоги звали его к себе на службу, но он не соглашался, потому что не хочет отстать от православной веры.
Слухом земля полнится. Скоро в Москве проведали, что чертов Тимошка всплыл на Украине, живет в чигиринской ставке при Богдане Хмельницком и гетман его жалует. Опять встал вопрос: «Как бы нам того вора достать?» Дело поручили Шпилькину как подьячему Польского приказа, тот спешно выехал в приграничный Путивль, и вскоре двое тамошних торговых людей объявились в Чигирине по своим торговым делам. Заодно они втайне известили князя Шуйского, что если он приедет в Путивль, великий государь его своим жалованьем пожалует против гетманского жалованья вдвое.
Анкудинов обрадовался и отвечал, что давно хочет послужить великому государю, но одним словесным речам верить нельзя, пускай ему пришлют опасную грамоту. За этим дело не стало, Шпилькин в два счета накатал такую грамоту от лица путивльского воеводы, князя Прозоровского. «Тебе бы ехать ко мне тотчас без всякой опаски, – писал он, ликуя, – а великий государь тебя пожаловал, велел принять и в Москву к нему отпустить».
Гонец из Путивля доставил грамоту Анкудинову. Прочитав ее, тот со слезами на глазах объявил: «Рад я к великому государю в Москву ехать!» Назавтра он позвал гонца к себе на обед, выпил чару за здоровье царя и великого государя Алексея Михайловича, но вдруг, потемнев лицом, сказал: «С мудрыми я мудрый, с князьями – князь, с простыми – простец, а с изменниками государевыми и моими недругами рассудит меня моя сабля!» С этими словами он схватил со стены саблю и стал гонять шпилькинского посыльного по хате, пока не вышиб за дверь. На том все и кончилось.
Шпилькин предпринял еще ряд попыток выманить Анкудинова в Путивль, пробовал подослать к нему наемных убийц, но из этого тоже ничего не вышло. Анкудинов окружил себя ватагой прикормленных казаков, состоявших при нем в двойной роли собутыльников и телохранителей, они безотлучно жили у него на дворе и ходили с ним даже в церковь. Лазутчики доносили, что человек он нескудный и ему есть что давать. Его благополучие покоилось на дружбе не только с Хмельницким, но и с войсковым писарем Иваном Выговским, человеком едва ли не более могущественным, чем сам гетман. Оба искренне полюбили князя Шуйского за верность православной вере и веселый нрав, но готовы были с кровью оторвать его от сердца, если представится случай выменять на него что-нибудь хорошее у москалей или ляхов. Достойных предложений, однако, ниоткуда не поступало. В Кракове им не интересовались, а бояре не хотели выкупать самозванца соболями. Соображения у них были те же, по каким Зульфикар-ага в Стамбуле рекомендовал Телепневу и Кузовлеву не ввязываться в это дело. Затевать торговлю казалось небезопасно и для казны, и для государской чести. Мало посулишь – не отдадут, много – тоже не отдадут, потому что уверуют в Тимошку как в истинного царевича, раз ему кладут такую цену, и запросят еще больше, а вдобавок раззвонят о его царском чине и в Крыму, и в Польше с Литвой, и в валахах. Очевидно было, что добром этот человек все равно не кончит, можно и подождать, пока сам свернет себе шею. В итоге на Анкудинова не то чтобы махнули рукой, но до поры оставили в покое. Он продолжал припеваючи жить в Чигирине, а Шпилькина отозвали в Москву и наложили опалу за поруху государеву делу.