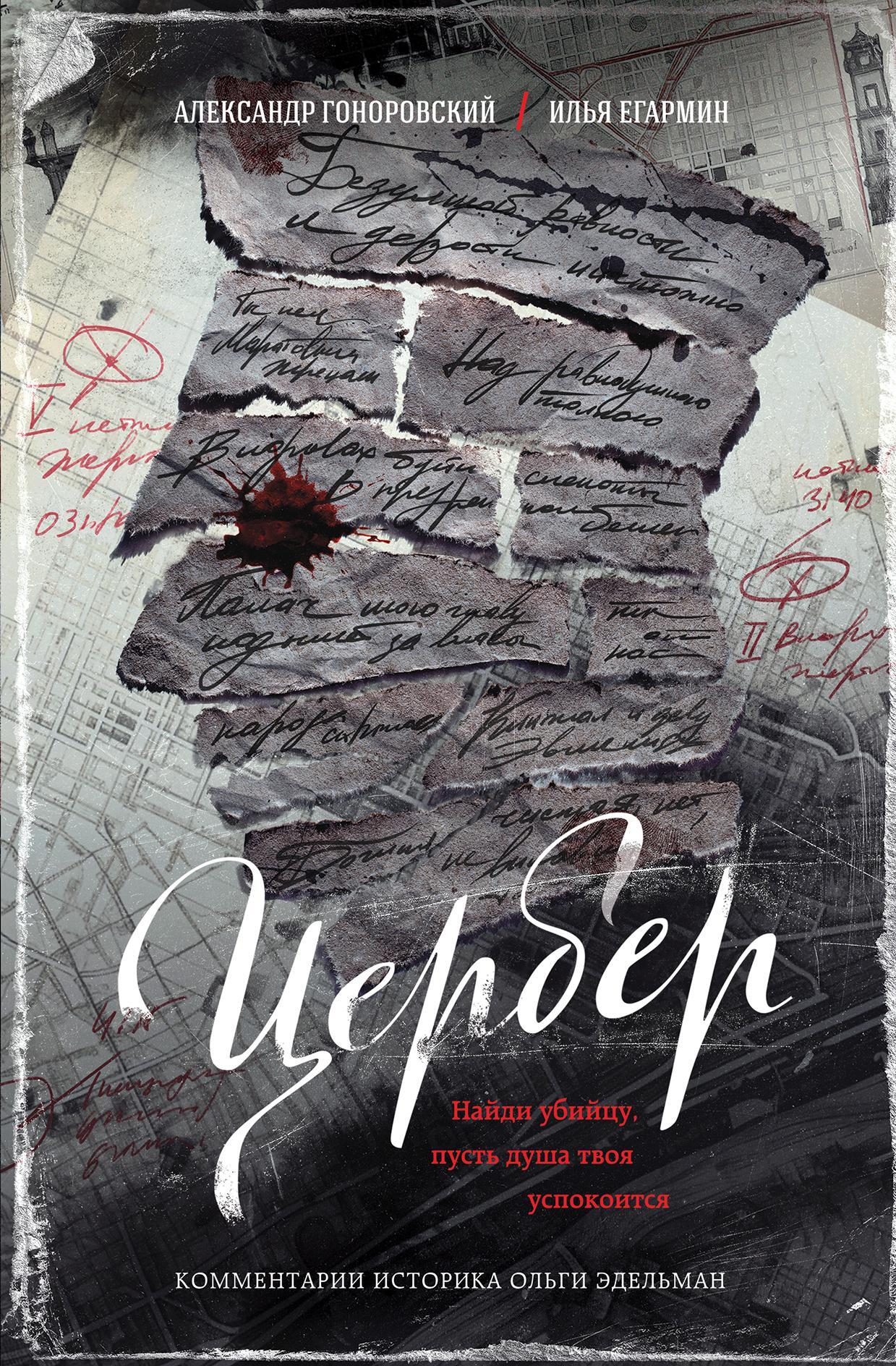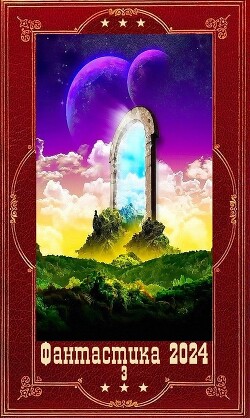руки, вытащил из платка пистолет.
Снова положил пистолет в платок и снова вытащил. Прицелился в василёк.
Дуло пистолета дрожало, тянуло слабеющую руку к земле.
Под ногами цепочкой ползли муравьи.
Царское Село было совсем близко. Ушаков вошёл в лес, что примыкал к Екатерининскому парку. Запах смолы, щебет птиц, шум ветра, словно тиски доктора Пермякова, давили голову. Он старался идти быстрее, но мешали нога и тело, которое стало ему велико.
Лес редел. Меж деревьями проступили аллеи с кустами белых роз.
Ушаков нашёл давно выбранную скамейку. Тяжело опустился на неё. Скамейка была не видна с аллеи, но с неё хорошо просматривался парк.
Прошла компания смеющихся дам с зонтиками. По дорожке на той стороне пруда маршировали солдаты. В чёрной воде плавали утки.
Каждое движение глаз отдавалось болью. Ушаков положил руку на рукоять пистолета, закрыл глаза. Он слышал смех, лёгкий плеск воды – кто-то бросал в пруд камешки. Под ногами шевелилась земля.
Ушаков задремал. Он видел стрельбу, слышал пороховой дым, чувствовал свет красного фонаря на глухой улице. В ожидании застыл лев. Его разбудили шаги и голоса.
Ушаков поёжился от сырости. Парк опустел. По аллее в тёмно-зелёном мундире, белых перчатках, с орденом Андрея Первозванного на груди шёл государь Николай Павлович. Он держал за руку девочку лет четырёх, которая в розовом платье с корсетом и в шляпке с лентами смотрелась как маленькая копия своей матери. Девочка гордо держала перед собой маковый кренделёк. За спиной Ушакова из парка прилетел тихий шёпот. Он обернулся, но увидел лишь обыкновенные сумерки и деревья.
– Papa, où sont les soldats [55]? – звонко спросила девочка.
– Quels soldats, Ollie [56]? – спросил Николай.
– Которые деревья охраняли.
– Это кто же тебе про деревья сказал?
– Маменька.
Николай улыбнулся:
– Деревья и без солдат растут. Что же ты кренделёк свой не ешь?
Олли строго посмотрела на отца:
– Вот когда захочу изо всех сил, тогда и съем.
Бросив руку отца, она побежала по аллее.
– Олли! – закричал ей вслед Николай. – Проказница, вот я тебя!
Олли вдруг заметила странного человека в пыльном мундире, остановилась. Плохо зажившая рана на горле, чёрный платок вокруг головы…
Олли робко шагнула к Ушакову, протянула кренделёк. Он растерялся и взял.
Подошёл Николай. Ушаков поднялся перед государем.
Николай настороженно оглядел его.
– Олли, зачем же ты кренделёк отдала? – спросил.
– Мне Марья Васильевна сказывала: Господь с убогими велел делиться, – ответила та.
Николай взглянул на перевязь, в которой висела рука Ушакова, на выглядывающую из серого платка рукоять пистолета.
– Ольга Николаевна, – сказал строго, – это не убогий, а человек, за отечество пострадавший. Немедленно извинись.
Девочка послушно сделала книксен:
– Простите великодушно.
– Ступай, побегай, – сказал Николай. – А я за тобой погляжу.
Олли побежала по аллее, подняв над головой розовую ленту.
– Капитан Ушаков, – Николай смотрел дочери вслед. – Я вас уже и не ждал.
Чтобы унять дрожь в пальцах, он сомкнул руки за спиной.
– Не всякому дано на государя руку поднять.
С ветки взлетела птица. Николай вздрогнул.
– Расправьте плечи, господин капитан, – эта фраза показалась Ушакову скорее просьбой, чем приказом.
Ушаков расправил плечи, спрятал крендель в повязку, достал пистолет.
Пистолет казался непомерно тяжёлым. Ушаков спокойно смотрел на государя, и вдруг сама мысль об убийстве этого человека, дававшая ему силы к жизни, показалась несущественной. Сейчас он поднимет руку и нажмёт на спусковой крючок. У государя расколется череп. Заплачет и закричит его дочь. А он, Ушаков, поднимется в глазах толпы до мстителя, направившего историю по новому руслу. Но всё это теперь почему-то стало ненужным. Не потому что было жаль государя или его дочь. Все те сомнения в обществе, которые призваны были поколебать сами принципы государственного устройства России, вдруг показались мелкими и вовсе не стоящими его внимания. Само общество было не готово к таким сомнениям, за которые можно было бы заплатить чьей-либо смертью. Хоть императора. Хоть Бога. Ушаков вдруг увидел плешивого, в возрасте, помещика с волосами на ушах и мятыми губами. Узнав о смерти Бога, он лишь подумает, с каким вареньем пить теперь чай – с малинишным или бруснишным. А потом сядет у окна и будет смотреть на сад, который ничуть не изменился. Наверное, боги мрут гораздо чаще, чем кажется. А может быть, всё из-за этого кренделька, пропади он пропадом?
– Олли, – голос Николая сорвался на фальцет.
Олли подбежала к отцу:
– А мне, папенька, уже надоело бегать.
– Ну так пойдём, милая! – всё так же не глядя на Ушакова, сказал государь.
Взяв дочь за руку, он осторожно зашагал по аллее. Ушаков видел, как император с дочерью обошли пруд и пропали в глубине парка. Ещё какое-то время слышался звонкий голос Олли.
В сумерках Ушаков остался один. Покачиваясь, он направился к пруду, спустился к воде, глянул в отражённое небо.
В небе плескала мелкая рыбёшка.
Ушаков приставил ствол к виску. Рука против его желания опустилась, пистолет выпал. С трудом держась на ногах, Ушаков шагнул в воду. Пруд был неглубок. Ушаков зашёл по щиколотку, когда ноги перестали слушаться. Он опрокинулся в пахнущую гнилью воду. Испуганные утки взлетели. Ушаков слышал шум их крыльев. Он лежал в воде и не мог пошевелиться. Вода упрямо плескала под затылком, мир продолжал существовать.
Бенкендорф и Бошняк шли через залы Александровского дворца. Их шаги глухо отдавались в высоких стенах, терялись среди колонн. Свечи в покоях горели через одну. Испуганные слуги не хотели лишний раз выходить из своих комнат. Им везде мерещился призрак с пистолетом и перечёркнутым повязкой лицом.
Из библиотеки навстречу с воплями выбежали дети. Олли бежала за пухлым восьмилетним мальчиком в гусарском кивере и с деревянною саблей.
– Стой, Мурфыч! Так нечестно! – кричала она. – Я тебя первая убила!
Мурфычем за его беспечный и непоседливый нрав звали старшего сына Николая Сашу. Через пятьдесят пять лет в Александра II метнёт бомбу народоволец Гриневицкий [57]. Мурфычу оторвёт ноги, и он умрёт, истекая кровью.
Мурфыч скорчил Олли рожицу и, неуклюже виляя попой, пропал за следующей дверью. Топот и крики рассеялись в анфиладе.
Бенкендорф с Бошняком ступили на длинный, в лунах, драконах и синих цветах ковёр, ведущий в приёмную государя. Оттуда в коридор падал яркий свет. Двое солдат у дверей отдали честь, расступились.
В приёмной было жарко. Государь сидел за рабочим столом, на котором царил неизменный военный порядок. За его спиной чернело окно. Перед Николаем Павловичем стояло блюдо со спелыми грушами – такое огромное, что император рядом с ним выглядел ребёнком. Государь жевал седьмую.
– Груш вдруг захотелось, господа, – голос у него был тих и слаб. – Бере Жиффар. Отличный сорт. Угощайтесь.
– Батальон охраны прочёсывает сад, ваше величество, – доложил Бенкендорф.
– Быстро вы прознали, Александр Христофорович, – заметил государь.
– Не так быстро, как следовало, – возразил Бенкендорф.
Николай Павлович сделал над собой усилие и отложил надкусанную грушу:
– Вот вам, Александр Христофорович, и французский роман со стишками…
Государь покивал собственным словам, снова взял грушу, откусил. По