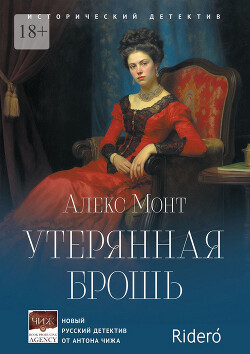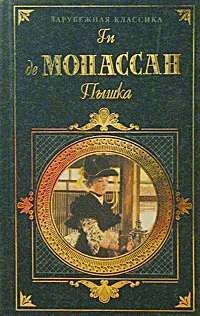– Я, кажется, вас помню, – отчетливо произнес он.
– Допрашивал вас по поводу кражи пороха на Охтинском пороховом заводе, господин Лиховцев. Следователь окружного суда коллежский асессор Чаров.
– Да-да, фейерверки с Нечаевым. Пришлось ради них камни заложить, дабы охрану заводскую подкупить, а он возгордился и не пожелал меня видеть, – полагая, что умирает, глаголил истину Казимир.
– Камни? – вскинулся Чаров.
– Выковырянные с оклада Евангелия моей матушки. Да и еще кое-что, – глаза молодого человека наполнились слезами.
– Кое-что? О чем вы? Впрочем, ежели это тайна… – потупил взор Сергей.
– Отчего же, господин следователь. Услышьте хоть вы, исповедоваться или тем паче каяться я не желаю. Даже коли Зося меня попросит.
– Вы предполагали рассказать о камнях и…
– Броши, кою отдал покойному господину Журавскому, а уж он продал своему человеку.
– Брошь вы тоже у матушки… – не захотел употребить соответствующий глагол судебный следователь.
– Нет, это совсем иная история, а брошь я пустил на другое дело… – на секунду потерял нить беседы Лиховцев. – Когда я принес камни на квартиру оценщику, там был один поляк, Журавский, кой оказал мне потом великую услугу, – поведал о происшествии возле дома Трегубова Лиховцев.
– Стало быть, господин Журавский предложил вам стать посредником по части ломбардных дел. Получая от вас камни из оклада Евангелия, он относил их знакомому ювелиру. Желатин делал копии, а стекляшки вы собственноручно вставляли в оклад обратно.
– Все так и было, – щеки раненого пылали, но сознание оставалось ясным.
– Вы упомянули про брошь… – навел на животрепещущую тему Сергей.
– Мы возвращались с парижской выставки, отцу вдруг вздумалось попить лечебной воды на курортах Баден-Бадена, и мы застряли там почти на месяц. Минеральная вода мне претила, зато рулетка в том мертвом царстве желчных стариков и пресыщенных жизнью аристократов развлекла немного. Отец ненавидит игру и никогда не дал бы на нее денег, но у меня оставалось кое-что от вырученных камней, да и…
– Понятно, господин Лиховцев, – не стал его затруднять продолжением ненужного рассказа Чаров.
– В один из вечеров я пришел в казино и, выиграв неожиданно много, зарекся ставить, поскольку спустил к тому дню почти все. Когда я вышел из зала, дабы обменять фишки, приметил одного несчастного, проигравшегося дотла. В его глазах отражалась боль и тоска. Нет, это была не тоска, а бездна отчаяния. Я пожалел его и отдал половину фишек, однако, находясь на самом краю, он сохранил понятия о чести и предложил мне взамен брошь, кою собирался преподнести своей даме, но та оказалась дешевой тварью и изменила ему с его собственным братом.
– И эту брошь вы отдали господину Журавскому? – не веря своим ушам, предположил Сергей.
– Отчего бы и нет, господин следователь. Он не подводил меня допрежь, когда сдавал камни Желатину, не подвел и в тот раз, а деньги мне были нужны до крайности.
– Стало быть, Журавский отнес вашу брошь ювелиру?
– Порфирьичу. Желатин был в отъезде, и по старой памяти господин Журавский продал брошь ломбардному приемщику, – Лиховцев закрыл глаза, и по его щекам потекли слезы.
– Вам трудно говорить, я лучше уйду, может, после, в другой раз…
– Другого раза не будет, господин Чаров. Коли сегодня не умру, признаваться ни в чем завтра точно уже не буду, – прохрипел молодой человек, и его грудь стала чаще вздыматься.
– Тогда извольте.
– Я убил Журавского в нумере «Знаменской» гостиницы на… – искал подходящие слова Казимир, в то время как Чаров затаил дыхание и ловил каждый доносившийся звук. – На почве мучившей меня ревности, – наконец сформулировал он. – Объятый страстью к госпоже Ржевуцкой, должен сказать, до неприличия животной физиологической страстью, отношения наши на тот момент только начинались, и влюбленный до сумасшествия, я водил ее по лучшим местам Петербурга, бездумно расходуя полученные от Журавского за брошь деньги, – сглатывая слюну, раненый остановился и перевел дух.
– Я безумно ревновал ее и был готов убить даже дядю Станислава, или объясниться, но Катаржина твердо запретила говорить с ним об этом, а потом я узнал, что он болен… – потерялся в воспоминаниях Лиховцев. – Но постоянно, всякий час и минуту я чувствовал, понимал, знал, что Катишь от меня многое скрывает, и стал следить за ней. В тот день Катишь отправилась на Галерную улицу с дядей, а прежде они заезжали в Пассаж и купили парики, один из коих она после надевала. Я проследил за ними до самой редакции «Вестника Европы», куда они намеревались поместить свои статьи. Господин Журавский, состоя в знакомых редактора журнала, обещался им посодействовать. Так вот, когда Катаржина вышла из редакции, а дядя там задержался, она остановила проезжавший экипаж. Я был в пролетке и тронулся следом, – раненый стал задыхаться и надолго умолк.
– Карета покатила к Николаевскому мосту, потом остановилась, и тут я увидал Константина, пана Журавского, кой из нее вышел, чтобы перемолвиться парой слов с повстречавшимся ему господином. Страшная ревность закипела во мне. Потом их карета развернулась перед мостом, поехала обратно по Английской набережной и, свернув на Невский, остановилась уже возле «Знаменской» гостиницы. Причем Катишь надела тот мерзкий седой парик и стала хромать, изображая калечную старуху, когда вылезала из кареты, а Константин подавал ей с плотоядной улыбкой руку…
Выскочив из пролетки, я пошел следом. Они поднялись в нумер, а потом она вернулась в вестибюль. Коридорный принял ее театр за чистую монету и даже сопроводил вниз. Из вестибюля Катаржина неожиданно вновь поднялась в нумер к Журавскому. Она часто оглядывалась, но я был не замечен ею. Им принесли ужин, а потом и вино. Оставаясь за дверью нумера, я догадался, что там происходит. Кровь ударила мне в голову, обезумев от ревности и горя, я выхватил дядин кольт, кой она мне втайне дала, дабы я упражнялся в стрельбе… – у Казимира вновь перехватило дыхание.
– Нумер был не заперт, – наконец смог разомкнуть уста Лиховцев, – и я увидал мою Катишь в объятиях Константина. Они такое вытворяли… – прикрыл веки он. – Не помня себя, я что-то выкрикнул, Константин обернулся, и тут я выстрелил. Убил того, кто спас мне жизнь. Боже, какой ужас! – он заметался на подушке и побелел.
Выскочив в коридор, Чаров крикнул лекаря и вернулся к раненому.
– Затем мы ушли… – прошептал молодой человек. – Я плохо понимал, что со мной. Катаржина усадила меня на стул и, отобрав пистолет, быстро оделась, спрятав кольт с париком в сумочку с серебряной бахромой на плетеной золотой цепочке, кою я ей дарил. Удостоверившись, что коридорного нет, она взяла меня за руку, и мы сошли в вестибюль. Катишь уже не хромала, – Лиховцев задумался, и страдальческая складка глубокой бороной прошлась по влажному от испарины лбу. – Сказала, что возьмет извозчика против гостиницы, а мне велела идти к вокзалу, – часто сглатывал слюну он. – Пройдя Знаменской площадью, я нанял возницу и… – в это мгновение в палату вбежал лекарь, а за ним крепко сбитый человек с гладкой лысиной, седой бородой и бакенбардами, потребовавший от судебного следователя немедленно уйти. То был хирург Пирогов…
Глава 28. Раут в Новознаменке
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодную рукой!
Прослушав заявленную арию Орфея, очарованная публика попросила Лавровскую спеть романсы на стихи Ивана Мятлева – поэта пушкинской поры и отца нынешнего хозяина исторической усадьбы, известного мецената Владимира Мятлева. Чудесный голос юной певицы лился из залы под виртуозный аккомпанемент Чайковского, занявшего место за роялем. Переложить стихи Мятлева на музыку композитору раньше не случалось, и, уступая желаниям публики, он гениально импровизировал. Чаров так заслушался необычайной красотой голоса певицы и блестящей импровизацией Чайковского, что не сразу увидал сидевших против него баронессы Лундберг с дочерью и будущим зятем. Когда смолкли последние аккорды, сиявший счастьем Несвицкий сообщил, что его отметили на параде.