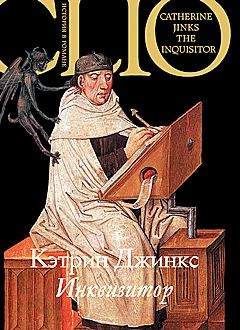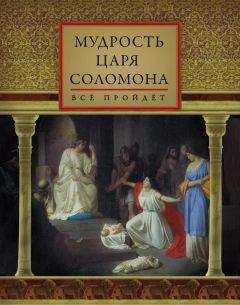— Сенешаль искал реестры?
— О нет. Он искал труп Раймона.
— Что?
Дюран рассмеялся. Он даже похлопал меня по руке.
— Простите меня, отец Бернар, — сказал он, — но у вас такое лицо! Святой отец, я слышал, что когда мужчину или женщину убивают, то сенешаль прежде всего подозревает супруга.
— Но нет же доказательств…
— Что Раймон мертв? Верно. Я лично считаю, что он отсыпается где-то после попойки. Но, может быть, я ошибаюсь. У сенешаля больше опыта в таких делах.
Я затряс головой, увязая в глубоком болоте и находя точки опоры.
— Мы, конечно, должны задаться вопросом: где он спал с этими женщинами? — продолжал нотарий. — У него есть пара доходных домов, здесь в округе, но они полностью заняты.
Может, кто-нибудь из жильцов пускает его к себе, за скидку в оплате? Или он просто хоронится по навозным кучам, как всякий другой.
Мои мысли постепенно становились более связными. Я поднялся на ноги и сказал Дюрану, что я иду в дом Раймона. Но не успел я дойти до двери, как он окликнул меня:
— Отец Бернар, один вопрос.
— Да? Что такое?
— Если Раймон жив, в чем у меня нет сомнений, что будет со мной?
— С вами?
— При одном инквизиторе работы для двух нотариев будет недостаточно.
Наши взгляды встретились, и что-то в моих глазах или в складках губ подсказало ему ответ. Он улыбнулся, пожал плечами и развел руками.
— Вы оказали мне бесценную услугу, отец мой, — сказал он. — Эта должность делается мне не по вкусу кровавой.
— Оставайтесь здесь, — сказал я, — до возвращения инквизитора. Он специально вас вызывал.
И я ушел, терзаемый всеми теми вопросами, на которые мне хотелось найти ответы. Неужели Раймон Донат взял домой следственные реестры, прекрасно зная, что это запрещено всем, кроме инквизиторов еретических заблуждений? Знал ли Пьер Жюльен об этом нарушении устава? И какие реестры он отобрал? Ища просветления, я не шел, а на крыльях летел к дому Раймона, и только затем, чтобы еще в виду Палаты натолкнуться на взбешенного Пьера Жюльена.
— О! — воскликнул он.
— А! — сказал я.
Хотя мы стояли посреди улицы, под любопытными взглядами горожан, он принялся распекать меня голосом пронзительным, точно пастушья свирель. Он был еще бледнее, чем обычно.
— Да как вы смеете ходить к сенешалю без моего позволения? — заверещал он. — Как вы смеете обращаться к светским властям? Вы дерзки и непокорны!
— Я более не обязан покоряться вам, брат. Я оставляю Святую палату.
— Верно! Тогда, будьте добры, не лезьте в ее дела!
Он хотел пройти мимо, но я схватил его за локоть.
— О каких это вы делах говорите? — спросил я. — Может быть, о пропавших реестрах?
— Пустите.
— Дюран слышал, как вы говорили сенешалю, чтобы он уступил вам реестры, если таковые будут найдены среди вещей Раймона. Вы сказали, что они — собственность Святой палаты.
— Вы не имеете права допрашивать меня.
— Наоборот, я имею все права! Вы знаете, что Раймон заявил о пропаже двух реестров? Может быть, он взял их с вашего ведома? Неужели вы не знаете закона, установленного первым инквизитором Лазе, что следственные реестры не должны покидать пределов Святой палаты, если только не под надзором инквизитора?
— Я дал Раймону разрешение взять один реестр домой, — зачастил Пьер Жюльен. — Он был необходим для выполнения задания, которое я ему поручил.
— А где он сейчас? В руках сенешаля?
— Возможно, он лежит на столе Раймона. А может, он вообще его не брал.
— Вы доверили ему следственный реестр, а теперь не знаете, где он?
— Посторонитесь.
— Брат! — громко объявил я, не обращая внимания на слышавших нас людей. — Мне кажется, вы недостойны занимаемой вами должности! Попирать устав так откровенно, идти на такой риск…
— «Кто из вас без греха, пусть бросит камень!» — закричал Пьер Жюльен. — Вам едва ли подобает упрекать меня, брат, вам, чья слепота не позволяет вам видеть еретиков прямо у себя под носом!
— Вот как?
— Да, именно так! Вы хотите сказать, что не заметили письма от епископа Памье, что лежит в бумагах отца Августина?
Клянусь, мое сердце остановилось. Затем застучало, как молот о наковальню.
— Где-то в этой епархии есть девушка, одержимая бесами, — продолжал Пьер Жюльен, вне себя от злости, — а где демоны, там и колдуны. Воистину, брат, вы один из тех, кто своими глазами смотрят и не видят. Вы недостойны быть моим викарием.
И он ушел прочь, прежде чем я успел ему ответить.
Вообразите себе мое положение. Я был окончательно изгнан из Святой палаты. Моя любовь к Иоанне де Коссад, истощившись либо, наоборот, усилившись от ее отсутствия (и я полагаю, что мудрецы расходятся во взглядах на этот вопрос), была тем не менее достаточно сильна, чтобы не давать мне ночью сомкнуть глаз. Я знал Пьера Жюльена Форе и знал, на что он способен. Как только он установит, что одержимая девушка из письма — это Вавилония де Коссад, он пойдет на все, лишь бы вырвать у нее признание в колдовстве — у нее, равно как и у ее друзей. И потом, хотя он и был невеликого ума, даже он в конце концов мог заподозрить Вавилонию, действуя путем исключения. Так что я не мог возлагать особых надежд на его глупость.
Из глубины взываю к Тебе, Господи![90] Выражаясь словами блаженного Августина, повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, сердце мое пребывало во тьме, и, куда бы я ни кинул взор, везде была смерть. Когда Пьер Жюльен ушел, я и впрямь сначала стоял ничего не видя и не слыша. Я был, по его словам, как те, кто глазами смотрят — и не видят; своими ушами слышат — и не разумеют. Я вкушал хлеб раскаяния, ибо знал, что такое Святая палата. Стоит только раз навлечь на себя ее гнев — и уже не спастись. У нее широкие сети и долгая память. Кто лучше меня мог знать? И это я оплакивал и видел пред собой лишь крапиву и соляную рытвину — пустыню безысходности.
Некоторое время я бродил бесцельно по улицам, и по сей день я не могу сказать, здоровались ли со мной на моем пути. Я отвернул свой взор от мира; я не видел ничего, кроме своих бедствий и печалей. Затем, порядком устав, я стал более чувствителен к собственной плоти и окружающему. Я почувствовал протесты моего желудка, ибо звонили уже девятый час, и пора было перекусить. Я вернулся в обитель, где, как опоздав шего к трапезе, меня встретили осуждающими взглядами. За опоздание мне полагалось порицание на капитуле, но меня это не волновало; я был уже слаб и немощен под плетью моей совести. Любые наказания я воспринял бы как должное, ибо в гордыне своей и высокомерии я изгнал себя из Святой палаты. Я не мог теперь помочь Иоанне, ибо не мог участвовать в решениях относительно ее судьбы. Я сам искалечил себе руки и сам вырвал себе язык.
Я был глупец, ибо глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его.
Боже милосердый, как я страдал! Я пошел к себе в келью и стал молиться. Борясь с приступами отчаяния, притуплявшими мой разум и чувства, я пытался сообразить, что же мне делать дальше. И единственное решение приходило мне на ум. Каким-то образом я должен вернуться в Святую палату, хотя верблюду было бы проще пройти сквозь игольное ушко. Мне нужно как-то восстановиться в прежней должности.
Я понимал, что за возвращение придется дорого заплатить. Пьер Жюльен заставит меня размазать навоз по лицу, и я буду у него лизать прах, как змея. Но клянусь, я был готов есть пепел, как хлеб, если понадобится. Моя гордость была ничто рядом с любовью к Иоанне.
Вы, быть может, недоумеваете, как я мог воспылать столь безоглядной, столь пылкой любовью так скоро, всего лишь после двух кратких свиданий. Вы, наверное, дивитесь крепости этих цепей, коими я оказался столь внезапно и прочно прикован к далекому предмету моей страсти. Но разве не прилепилась душа Ионафана к душе Давида после их первой встречи? И разве не свидетельствуют многие мудрецы, что любовь, входя через глаза, зачастую поражает в тот же миг? Несть числа примерам как в настоящем, так и в прошлом, и мой пример, откровенно говоря, один из них. Я бы с радостью сосал яд из язв прокаженного, чтобы уберечь Иоанну от вреда.
И, наверное, такова была воля Божия, чтобы я терпел подобные невзгоды. Может быть, таков был Его замысел, чтобы я смирился и сокрушился. Не сумев изменить меня Своей божественной любовью, Он, наверное, хотел добиться этого, посылая гнев Свой мне в наказание. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим[91].
И посему я умылся, продумал свои действия и вернулся в Палату с намерением жаться к навозу. Время шло к вечерне, и тени удлинились; почти целый день я провел в молитвах и самобичевании. Но оказалось, что Раймона Доната еще не нашли, о чем мне сообщил брат Люций, отворивший дверь на мой стук.