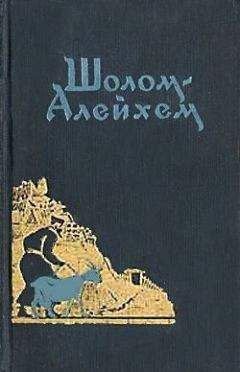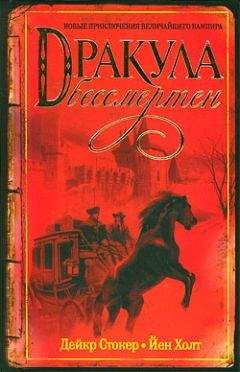Дожидаясь доктора, я сел за стол, на котором были разбросаны письма Генри. Меня одолевала усталость, Кейн, смертельная усталость. Не могу сказать, будто к тому времени я пришел в себя, вовсе нет, однако мой взгляд, брошенный из-под отяжелевших век, упал на конверт, адресованный мне. И почерк показался знакомым. Неужели это от него? Я уставился на это письмо, которое, казалось, поблескивало, как самородок золота на дне ручья. В глубине души робко затеплилась надежда: может быть, это и вправду письмо от Уитмена.[13]
Так оно и оказалось. Наконец-то пришла весточка от самого Мастера. Как мне недоставало этого еще недавно, когда я сидел за столом, перетасовывая корреспонденцию Ирвинга, словно карточный шулер! Как же меня угораздило сразу не увидеть и не узнать долгожданное послание?
Еще несколько месяцев назад я написал Уитмену, сообщив ему о предстоящем турне и спросив его под конец, можем ли мы встретиться. Это была бы аудиенция, Кейн, с Поэтом Поэтов, Папой Микл-стрит.[14]
Уитмен ответил, что он не совсем здоров и будет лучше, если я напишу ему снова, ближе к предполагаемой дате нашей встречи, тогда он сможет ответить точнее. Я сделал это неделю тому назад. И вот пришел его ответ. Я разорвал конверт зубами и вытряхнул оттуда письмо.
«ДРУГ АБРАХАМ» — так начиналось оно. Печатные буквы приветствия быстро перешли в закорючки: «Мой дорогой юный друг. Ваши письма уже давно стали желанны для меня, желанны как для человека, а потом как для писателя — я не знаю, что больше. Вы хорошо сделали, что все эти годы писали мне. Ваши послания написаны так свежо, так мужественно и с такой любовью. А сейчас вы в нужде…»
Неужели я об этом писал, или Мэтр сам сделал такой вывод?
Не могу припомнить, но наверняка я надеялся, что Уитмен каким-то образом меня спасет. Как же иначе, раз я так держусь за его слова. Я построю свою жизнь на них заново, Кейн. И ты увидишь нового Стокера, когда мы встретимся в следующий раз, если ты при всей своей занятости сможешь уделить мне ломтик своего лондонского досуга. Но что это за слова, на которые я ссылаюсь? Конечно, ты уже задаешься этим вопросом.
Почерк Уитмена был мне знаком по многим его ответам на письма, посылавшиеся ему в бытность мою в Тринити.[15] Но теперь возраст явно сказывался на его манере письма, особенно это заметно по клонящимся вперед буквам, а также по отсутствию горизонтальной черты над «t» и точки над «i». Я слышал, что Уитмен не очень хорошо себя чувствует. До меня даже не раз доходили слухи, будто он умер, и поэтому в следующем письме я не настаивал на нашей встрече, да и не возлагал особых надежд, что он исполнит мою просьбу. Тем не менее отказ Уитмена стал для меня настоящим ударом.
«Я совершенно разбит, — писал он, — причем перенесенный паралич, возраст и сопутствующие недомогания делают это плачевное состояние перманентным. Таким образом, ДРУГ АБРАХЭМ — Уитмен обожал подшучивать над моим именем, — я не могу просить вас по прибытии в Америку тут же посетить меня в Камдене. Похоже, нам, двум друзьям, суждено попрощаться, так и не поздоровавшись, но нам не доведется услышать и последнее „прости“. Смерть уже дышит мне в затылок, поэтому я возвращаю ваши предыдущие письма, собрав их вместе. Вам, а не тем, кто сползется делить мое имущество, предстоит определить их судьбу».
И действительно, среди многочисленных писем на столе находился упомянутый пакет с моими прежними посланиями.
«Я вижу боль, сочащуюся с вашего пера, — писал в заключение Уитмен. — И в качестве утешения могу предложить лишь одно. Каждый человек должен каким-то образом запечатлеть имя Господа в письме своей жизни. Сделайте это и вы, ДРУГ. Прощайте».
Это были последние слова Уитмена, обращенные ко мне. Хуже: они говорили о его надвигающейся смерти.[16]
Нужно ли мне, Кейн, признаваться в том, что у меня на глазах снова выступили слезы? Это была самая нежеланная весть. Сердце мое разбилось, как и бутылка с виски. И признаюсь, среди самых острых осколков оказалось несколько подброшенных Уайльдом, ибо он недавно побывал на Микл-стрит, удостоившись кларета и беседы, о чем не раз и не два мне рассказывал. Впрочем, тьфу на него, на Уайльда. Лучше снова прочитать наставление мэтра.
«Каждый человек должен запечатлеть имя Господа в письме своей жизни. Сделайте это и вы».
Как мне сделать это, Кейн, когда мое собственное имя столь блекло и моя жизнь кажется лишенной всякой цели?
Увы. Увы и ах!
Но как же я рад, что Уитмен взял на себя труд собрать и вернуть мои письма. Читатель, не имеющий ни сочувствия, ни понимания, может увидеть в этом средство смутить меня или того хуже. Все не так: однако об этом позже. Позволь мне сначала довести этот рассказ до конца.
От стука в дверь я вздрогнул, а когда врач после моего приглашения вошел, он замер, ошеломленный видом залитых кровью подоконника, стен, простыней. Вскоре он весь дрожал от представшей ему картины и от царившего в комнате холода. К счастью, персонал таких отелей, как «Брунсвик», отменно вышколен и приучен не проявлять излишнего любопытства, ведь за его отсутствие здесь хорошо платят. Разумеется, пока принимались срочные хирургические меры, я, как мог, попытался объяснить случившееся, ссылаясь на виски — благо им тут все пропахло, — заевшую оконную раму и тому подобное. Доктор выслушал все это, сочувственно кивая и не спрашивая, откуда столько крови. Зашив мне рану, он предложил договориться насчет другого номера, в котором я мог бы переночевать, пока у меня наведут порядок. Вскоре я расписался за предоставленный мне взамен номер как «Уолтер Камден», принеся с собой туда лишь связку писем, которые вернул мне Уитмен, и настой, прописанный доктором. По его словам, он поможет мне заснуть. Поблагодарив врача, я без обиняков заявил, что не стоит отягощать всем этим мистера Ирвинга, и достойный эскулап, хотя и отказался от вознаграждения, многозначительным кивком гарантировал мне молчание.
Итак, я устроился в новых апартаментах со словами: «К черту Генри Ирвинга!» — и с намерением перечитать мои старые письма. Думаю, Кейн, тебя не удивит, что я заказал в номер бутылку лучшего в «Брунсвике» виски, желая смягчить двойную боль — и телесную, от обработанной раны, и душевную, ибо первое из этих писем я написал шестнадцать лет назад, в возрасте двадцати четырех лет, когда был уверен, что нашел в сочинениях Мэтра слова, которые станут якорем для моей мятущейся души.
Тогда, еще в Тринити, начитавшись тайком его стихов, я писал Уитмену следующее:
«Я почти вдвое моложе вас, воспитан как консерватор в консервативной стране, но слышал, как ваше имя с восторгом произносит великое множество людей…[17]
Теперь я пишу вам, ибо вы отличаетесь от других. Вы истинный, настоящий человек, и мне самому хотелось бы стать таким, получить право называть себя вашим младшим собратом, учеником великого Маэстро… Вы стряхнули с себя оковы, и ваши крылья свободны. На мне по-прежнему оковы, но у меня нет крыльев».
К счастью, помимо этих восторгов я изложил и более прозаические факты, казавшиеся мне тогда существенными. Однако, по правде сказать, по прошествии времени остается лишь удивляться, с чего я тогда решил, будто Уитмен заинтересуется моей биографией. Самоуверенность молодости, как я полагаю.
«Хилый и хворый в детстве,[18] я выправился, вырос, и сейчас во мне шесть футов два дюйма роста, двенадцать стоунов чистого веса, и сорок один — сорок два дюйма в окружности груди. Я некрасив,[19] но силен и решителен. У меня выпуклые надбровные дуги,[20] тяжелая челюсть, большой рот с пухлыми губами, чувственные ноздри, курносый нос и прямые волосы».
О, Кейн, какой стыд! Неужели я мог так писать о себе? «Чувственные ноздри»? Господи! Удивительно, что Уитмен вообще ответил.
«Я атлет и чемпион с дюжиной кубков на каминной полке. Я был также президентом Философского общества колледжа, а также художественным и театральным обозревателем в ежедневной газете… Что же касается моей личности, то по природе я скрытен.[21] Я человек уравновешенный, хладнокровный… и умею держать себя в руках… У меня много знакомых и пять или шесть друзей, питающих ко мне искреннюю привязанность. Ну вот, теперь я поведал вам все, что сам о себе знаю».
Да, пожалуй, на тот момент так оно и было. Тут бы мне и отложить перо, подписавшись «Абрахам Стокер». Как бы не так!
«Я начал писать не без усилий, но теперь мне было трудно остановиться».
Да, меня и вправду понесло.
«Надеюсь, вы не станете смеяться надо мной из-за того, что я пишу это вам, ибо как сладостно для сильного и здорового мужчины с женскими глазами и детскими желаниями иметь возможность говорить с человеком, который может, если он пожелает, стать отцом, братом и женой его души…»