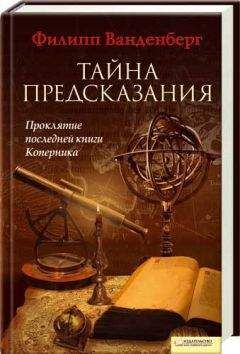Леберехту очень хотелось узнать, что произошло наверху. Но ему не хватало смелости спросить об этом у Лютгера.
Наконец, не говоря ни слова, он встал и пошел наверх, в комнату Марты. Он постучал, вначале тихо, затем сильнее. Марта не открыла.
В отчаянии, какого Леберехт уже давно не испытывал, он отправился спать.
На следующее утро, когда с реки пополз первый белый туман, предвещавший осень, Леберехт был готов ко всему, даже к тому, что Лютгер может отказаться сесть вместе с ним в почтовую карету.
Но еще до того как он успел переговорить с Мартой, бенедиктинец подошел к нему на лестнице и спросил:
— Почему ты с самого начала не сказал мне правду? Ты думал, я выдам тебя?
Леберехт сконфузился, но одновременно был рад тому, что Лютгер вообще разговаривает с ним. Юноша с благодарностью пожал монаху руку и ответил:
— Простите, но мне не хватило мужества посвятить вас в наши планы. Я боялся, что вы осудите наш поступок и расстроите побег.
Лютгер кивнул, словно хотел намекнуть, что давно простил его, а затем улыбнулся. Тут на верхней площадке появилась Марта, и Лютгер исчез.
— Я все рассказала брату Лютгеру, — сообщила она, поправляя свое монашеское платье и осторожно спускаясь по лестнице. В голосе ее звучало облегчение: — Я сама предложила снять монашеский наряд, но брат Лютгер рассудил, что этот маскарад — лучшая возможность без проблем миновать все границы. Мне придется еще пару дней красоваться в этом одеянии.
На дворе почтовой станции уже ожидали новые пассажиры, отправлявшиеся в Зальцбург. Кучер насчитал всего двенадцать человек, двое были лишними.
— Что ж, ладно, — произнес он с местным акцентом и призвал поторопиться, поскольку путь до Зальцбурга был неблизкий. В задней части фургона, отведенной для багажа, пришлось поставить дополнительную скамью, между рядами громоздились тюки и сундуки, а вдобавок еще начался дождь.
Хотя Леберехт, Марта и Лютгер были вынуждены сидеть, плотно прижавшись друг к другу, разговор между ними никак не завязывался. Все трое предпочитали молчать, ибо каждый думал о том, что же будет дальше. Угрызения совести мучили в первую очередь Леберехта, ведь он не сказал всей правды Лютгеру, своему другу, которому столь многим был обязан. Хотя теперь секрет открылся (в том, что касалось Марты), оставалась другая тайна, о которой он все еще не осмеливался рассказать: содержимое его багажа. Юноша боялся довериться Лютгеру, поскольку не исключал того, что монах попытается отговорить его от задуманного плана. А этот план был принят бесповоротно.
Размокшая почва узкой почтовой дороги, змеившейся по холмистой баварской местности и уходившей то вверх, то вниз, отняла у лошадей последние силы, и кучер был вынужден все чаще прибегать к плети. Так они пересекли Вильс и Ротт — два ручейка с бугристыми выгонами по обе стороны, которые так долго тянулись следом, словно влюбились в этот ландшафт и хотели подольше побыть с ним.
У Оттинга, где два города, расположенных тесно друг к другу, спорили за одно и то же имя, они пересекли Инн и спустя час — еще одну речушку, вброд. Затем они добрались до развилки с придорожным столбом, где один из знаков указывал в сторону Пассау, другой же — на Зальцбург. Отсюда, решил Лютгер, взглянув на аппианскую карту, их ждет дорога получше.
Едва бенедиктинский монах сказал это, фургон содрогнулся от сильного удара. Словно корабль, попавший в шторм, повозка вдруг накренилась, ее правую заднюю часть занесло в сторону — и путешественники попадали друг на друга. Кучер, напрягшись изо всех сил, заставил лошадей остановиться.
Леберехт, Марта и Лютгер, сидевшие на передней скамейке, отделались испугом. Они выпрыгнули из фургона и попытались высвободить остальных пассажиров из их западни. К счастью, никто не пострадал.
— Ось сломалась! — установил Лютгер, взглянув на поломку. — И заднее колесо тоже никуда не годится.
Несмотря на дождь, на дороге, по которой ездили в основном фургоны, груженные солью, царило оживленное движение. Возчик, ехавший налегке из Богемии, остановился.
— Случилось что?
Почтовый возница, размахивая руками, словно ему приходилось отбиваться от роя пчел, налетел на того с невнятным потоком слов.
— Ничего серьезного! — объяснил ситуацию Лютгер. — Сломана ось. Можешь нам помочь и доставить до ближайшего города?
Марта достала монетку и вложила ее в руку возчика соли.
После этого физиономия его просветлела.
— Ну конечно, — ответил он и попытался отвесить поклон монахине. — До Бургхаузена как раз мили три. Если хотите, доставлю вас к почтовой станции. Забирайтесь! Придется потесниться, конечно, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти!
Пока они перегружали свой багаж, с севера показались две гужевые повозки с высокими красными колесами и деревянным верхом, размалеванным желтой и голубой краской. Кучер первой повозки был в черной широкополой шляпе. Он крепко держал поводья усталой, тяжело бредущей лошади и играл на флейте. Девочка с длинными, насквозь промокшими рыжими волосами, едва ли старше двенадцати лет, била в крохотный барабан и, невзирая на дождь, весело напевала. Когда повозка проезжала мимо, из окошка её выглянула женщина с буйными волосам и огромной грудью, а две собаки, бежавшие рядом, громко залаяли. За второй повозкой, тоже пестро раскрашенной, неуклюже переваливался медведь на цепи и в кожаном наморднике. Так же внезапно, как и появилась, труппа циркачей исчезла в лесу за ближайшим поворотом.
— Люди! — крикнул возчик соли, глядя вслед бродячим артистам. — Прячьте свое полотняное белье, фигляры идут!
Остальные засмеялись.
Наконец багаж был погружен, путешественники заняли свои места, и пыльная повозка тронулась. Не прошло и получаса, как они достигли окраины города. Там, где дорога разветвлялась и вела прямиком к крепостным воротам, а мощеный путь по левую руку круто спускался вниз, возчик остановился.
— Пожалуй, будет лучше, — сказал он, — если вы пройдете остаток пути пешком. Гора слишком крута и опасна, и даже четыре лошади и два тормозных башмака не в состоянии удержать груженую повозку на мокрой мостовой.
Едва путешественники вошли в ворота, перед ними возникла картина, для описания которой потребовалось бы большое искусство. С крутого берега реки, которая благодаря своему тысячелетнему упорству прорыла в песчаной почве глубокую котловину, они увидели бурное, пенистое ложе, сплошь покрытое плоскодонными соляными баржами.
То, что неистовая река оставила от берега на этой стороне, послужило искусным жителям фундаментом для города, почти сказочного, какие описывали лишь крестоносцы и пилигримы, путешествующие по Востоку. Тот, кто прибывал в город, видел лишь изломы крыш узких домов, которые, словно деревянные игрушки, выстроились вдоль длинной рыночной площади. Приближаясь к городу сверху, путешественники испытывали ощущение, будто они взлетали, и поэтому многие из них чувствовали себя здесь особенно радостно.
Когда они вышли к почтовой станции, расположенной на рыночной площади, и получили свой багаж, дождь прекратился.
— Посмотри-ка! — обратился Леберехт к Марте, указывая на линию повернутых от реки домов.
Высоко над фронтонами, поражающими разнообразием форм, более чем на полмили раскинулся город в облаках, со своими зубчатыми башнями и мостами.
Даже римский профессор, который многое повидал, был поражен, а его болтливая дочь не произнесла ничего, кроме "Che miracolo".[63] Красота города так захватила всех путешественников, что ни один из них, даже спешащий купец из Ахена, не сожалел о вынужденной остановке. Почтовая станция находилась в центре, где, несмотря на обилие богатых домов с их ложными фронтонами, осталось свободное пространство, которое вело к мосту через реку. Здесь высилась башня ворот, запиравшихся на ночь для защиты от незваных гостей с противоположной стороны реки.
Лютгер и Леберехт, оставив багаж на постоялом дворе, разыскали кузнеца, который жил всего через пару домов, напротив того места, где крутая улица вела к рыночной площади. Он подковывал лошадей и чинил колеса. Звали его Каспар Браунер, и его имя служило объяснением того, почему его дом с опасно накренившимся фронтоном — единственный в целом городе — был выкрашен в коричневый цвет. Браунер обещал срочно устранить повреждение почтовой кареты.
Едва забрезжил первый утренний свет, в городе началось деловое оживление. Нагруженные солью повозки с шумом катились во всех направлениях через рыночную площадь, в то время как упряжки, отправлявшиеся на юг, были преимущественно пустыми. С реки доносились громкие крики лодочников, разгружавших и загружавших свои плоские баржи без киля и осадки. Вся соль, шедшая из Халляйна вниз по реке, должна была очищаться здесь и перегружаться на конные повозки. Таков был закон.