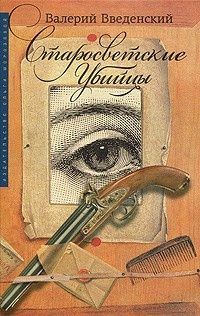– А как же, наш Данила жениться на ней решил.
– Она ходила за едой для князя на кухню, потом зашла в буфетную, взять шампанское. А бутылка оказалась открытой! Катя решила, что пробку вытащил Гришка, поставила бутылку на поднос и отнесла князю.
– А Гришка вынимал пробку?
– Тоже был пьян, не помнит. Да это и не важно! Митя мог открыть ее и кинуть яд.
Угаров с уважением посмотрел на Рухнова.
– Как просто! Странно, что никому не пришло это в голову, все думали, что яд был подсыпан уже в спальне… Шампанское обычно открывают, когда пить собираются.
– Далее! Утром Митя узнаёт о смерти князя, но второй жертвой оказывается не княгиня, а Настя, ради любви к которой он и замыслил убийства, но забыл ее предупредить! Ситуация хуже не бывает. Любимая мертва, кузен тоже, а Носовка переходит к Елизавете Берг.
– А Шулявский?
– Тоже Митя. Кто князя с Настей отравил, тот и поляка пристрелил. Не забывайте про склянку с цианидом!
– А его зачем?
– Ревность! Настя с Шулявским весь вечер заигрывала. Но вернемся к исчезнувшей княгине. Она поехала прокатиться на Султане. Мерина нашли ближе к вечеру на этой аллее. Так?
– Так.
– Княгиня ехала по лесу, кого-то встретила, остановилась поговорить, спешилась, тут-то ее и убили…
– Кто?
– Думаю, Никодим с Савелием, по приказу Мити. Помните слова конюха: "Княгине – гаплык" и "Мне теперь тут все обязаны"?
– Помню.
– А кто "все"? Князь и Настя убиты, Анна Михайловна при смерти. Только Митя остается.
– Никодим помогал убийце князя? Ерунда, он своими руками обещал его задушить…
– Своими и задушил! Митя его убедил, что виновата Елизавета. А когда Савелий стал болтать, Никодим, опять же по приказу Мити, задушил и его. Только вексель они так и не нашли.
– Откуда вы знаете?
– Вчера Митя тайком пробрался в кабинет князя, перерыл бумаги. Спрятала куда-то вексель Елизавета Петровна перед гибелью. Вот Митя и бегает к Никодиму, подозревает, что тот вексель украл, требует отдать. Пистолетом угрожает.
– Может, еще не прикончили княгиню? Мы когда с генералом на заимку заезжали, Никодим все спрашивал генерала, правда ли, что Елизавета Петровна князя убила!
– Может, и не прикончили. Пока она не скажет, где вексель, убивать ее бессмысленно. Знаете что, в доме Никодима подвал имеется. Покойник князь рассказывал, что он туда девок сажал, которые его ублажать отказывались…
– Надо немедленно осмотреть дом! – Денис подскочил. – У меня нога уже в порядке! Сбегаю, доложу все Киросирову, а потом вместе с исправниками осмотрим.
– Урядник покойников в церковь сопровождает, а исправники вашего Сашку в тюрьму повезли.
– Как в тюрьму?! Уже?! – У Угарова перехватило дыхание. – А я Киросирова так и не подмаслил! Бог мой, что с Тучиным будет?
– Надеюсь, выделят отдельную камеру и начнут сдувать пылинки. Я Павсикакию Павсикакиевичу, – тут Рухнов перешел на шепот, – от вашего имени сотенную сунул. Был крайне доволен-с!
– Вы мой ангел-хранитель! – У Угарова опять перехватило дыхание, и он полез к Рухнову целоваться. – А сотенную я вам сейчас же верну, как только в усадьбу вернемся!
– Пока Никодим отсутствует, предлагаю осмотреть дом самим.
– А как мы туда попадем? Там кабан…
– Я уже говорил, он ручной. За горсть желудей кого хошь в дом пустит. Покойник князь не зря его мздоимцем звал.
– Тогда вперед!
Тайна исчезнувших драгоценностей Северских оказалась столь банальной, что Тоннер отругал себя! Мог бы и без Сочина догадаться. Однако ни имя убийцы, ни судьба княгини, ни местонахождение самих бриллиантов не открылись. Была объяснена важная деталь этой запутанной истории, но главное оставалось под завесой.
– Что-то вас долго не было! – заворчала Анна Михайловна. – Вас моя невестка, царствие ей небесное, наняла?
Илья Андреевич встал как вкопанный. Старуха поправляется на глазах, разговаривает как здоровая! Да еще и знает что-то о судьбе княгини Елизаветы! Откуда?
– Кол осиновый проглотили? – еще громче спросила Северская. – Задорого, спрашиваю, наняла?
– Я здесь проездом. Лечу совершенно бесплатно, можно сказать, из сострадания. Завтра надеюсь уехать в Петербург.
– В столице, стало быть, служите?
– В столице.
– Жаль, что проездом, – продолжала Северская, – может, ко мне на службу поступите? Не обижу, но и златых гор обещать не буду. Пока болела, эта сучка Настька все разворовала! Кстати, где она? Не ее ли исправники в карете увезли?
Старуха болтала, не умолкая, упиваясь вновь обретенной способностью связно говорить. Тоннер от всей души радовался за нее. Редко тяжелобольные поправляются столь стремительно. Интересно, образовалась ли у нее зависимость от опиума? Если да, надо посоветовать Глазьеву продолжить давать его, постепенно снижая дозу.
– Надеюсь, Настьку повесят! Если нет, сама придушу! Ишь, придумала, меня сонным зельем пичкать! И Вася, кобель старый, ей в рот смотрел! Надо было семнадцать лет назад ему яйца оторвать, ан нет, пожалела! Как же, сын родной! Вы, доктор, бульон обещали.
– Я думаю, можно даже с гренками.
– Так велите подать!
Тоннер сделал знак сиделке, чтобы принесла еду.
– Одного не могу уразуметь, – продолжала Северская, – зачем Настька Васю-то убила? Какой ей с этого толк?
Тоннер присвистнул.
– Почему вы подозреваете Настю?
– Не подозреваю, а точно знаю!
"Может статься, старуха опять заблуждается. А вдруг нет! Была не была, вызову ее на разговор. А то застряну здесь до Рождества, пока вся история не распутается. Заодно догадку вчерашнюю проверю. Состояние больной, кажется, уже позволяет".
– Анна Михайловна, давайте-ка откровенно…
– Вы раньше таких замечательных опусов не играли.
– Счастлив, что вам понравилось! – Горлыбин попытался мягко уклониться от Суховской, боясь, что речь зайдет о спорном лужке, но та сунула его руку себе под локоток и повела по аллее. Убежать невозможно, вырываться неприлично. Ах, как длинна дорога в церковь!
– Как эта музыка называется? – встряхнула задумавшегося Горлыбина Суховская.
– Это "Lacrimosa", одна из частей "Реквиема" Моцарта.
– Знаете, я сегодня словно второй раз родилась! Так эта… Как бишь называется?
– "Lacrimosa".
– …все во мне перевернула, даже кушать не хочу!
Горлыбин в изумлении остановился:
– Представьте, со мной такое тоже однажды приключилось.
– Что вы говорите?! – изумилась на сей раз Суховская.
– Да, в глубоком детстве. Семилетним мальчиком меня привезли в Петербург, в гости к родственникам. Там я впервые услышал оркестр. Звучал Гайдн…
– Что-что звучал? Я в инструментах не разбираюсь.
– Гайдн! Это композитор. Неважно. В парке играла музыка. Никто и внимания на нее не обращал, но меня, карапуза, словно гвоздями прибило к месту. Я вмиг потерял интерес к играм и так же, как вы, ни за что не хотел идти обедать. С тех пор музыкой и живу.
– Значит, и этот гайдн надо послушать.
– Вы действительно хотите?
– Да.
– Просто… – Горлыбин замялся. – Просто я привык, что соседи любят под музыку закусывать, танцевать. Но просто слушать ее, как я, никто не умеет и не хочет.
– Они слушают, но не слышат, как я до сего дня. Треньбренькает что-то, ну и ладно. А я как в раю побывала, будто ангелы мне пели!
– Хотите, устрою концерт лично для вас? – неожиданно предложил Горлыбин. – Так приятно найти родственную душу!
– Когда? – деловито осведомилась Суховская.
– Да хоть сегодня, после службы. Приезжайте ко мне в имение. Пообедаем и сядем слушать.
– Пообедаем? – радостно спросила Суховская. Насчет отсутствия аппетита она явно преувеличила. – С удовольствием!
Вера Алексеевна Растоцкая искоса поглядывала на подругу. "Похоже, Ольга вчера не соврала, уступил Горлыбин лужок, ишь воркуют! И почему у меня одни неприятности? Не успели от Тучина откреститься, так Машка в Митю влюбилась! Все утро про него жужжала, сейчас глаз не сводит. Хорошо, тот от горя в себя ушел, ничего не замечает".
– Не пара он тебе, – зашипела Вера Алексеевна дочери. – Хочешь коров сама пасти?
– А мне нравится! – своенравно повела плечами Маша.
– Доченька, ну послушай…
– Маменька, вы бабушку слушали, когда за папеньку шли?
Вера Алексеевна на полуслове осеклась. Ведь права дочь. Чуть из дома не сбежала из-за ненаглядного Андрюши, родители за какого-то генерала мечтали выдать. "А Машка-то характером в меня! Придется, видно, нищих внуков содержать".
Процессия дошла до развилки, где вчера Киросиров с Тоннером устроили засаду. Урядник стал показывать места боевых подвигов Терлецкому, но тот напомнил, что и сам был неподалеку, распевал песни.
У Мити в душе клокотало. Хотелось взять топор и разнести в щепки и телеги, и ненавистные гробы! Ни капли скорби ни по князю, ни по Насте он не испытывал. Случись чудо и оживи они вдруг, убил бы своими руками! "Сволочи! Подонки! Негодяи! Ненавижу! И себя ненавижу, потому что такой же! Такое же ничтожество, как они! Почему не хватает мужества пойти и все рассказать? Как же, семью опозорю!"