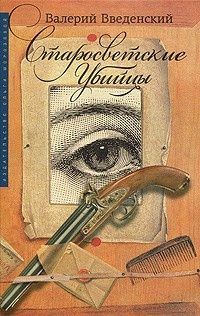— Нет, Лизочку не купали. Как почтенную матрону голышом при всем честном народе в купель-то окунуть? — вступил в разговор глава семейства Растоцких. — Ножки да ручки святым миром помазали, и ладно. А грудничков, тех под мышки — и в купель.
— Дай дорасскажу, ты меня перебил, Люсенька, — обиженно проговорила Растоцкая, и губы ее вытянулись бантиком. На детском, несмотря на преклонные лета, лице Андрея Петровича вмиг появилось раскаяние:
— Прости, Люсенька!
— Понравилось тут Лизабете, — продолжила Вера Алексеевна. — Хозяйством занялась, управляющего сменила, маслозаводик построила — в общем, не стала имение продавать, как поначалу хотела. А потом с Северским лямур начался! Кто бы мог подумать? Он ведь никогда жениться-то не собирался, гаремом обходился.
Терлецкий, уже навострившийся переводить тихо, быстро и почти дословно, снова запнулся. Тоннер опять пришел на помощь, объяснив, что помещики, словно восточные султаны, понравившихся крестьянок держат взаперти и используют как наложниц. Когда девушка надоедает, ее выдают замуж за какого-нибудь холопа. Заодно и исторический анекдотец рассказал: в 1812 году один помещик при сборе средств на ополчение хотел пожертвовать свой гарем. В порыве патриотизма рухнул на колени перед императором и закричал: «Всех забирай, батюшка! И Машку, и Глашку, и даже Парашку. Никого не жалко».
Роос с завистью посмотрел на Растоцкого.
— Люсенька меня любит. Ему такое ни к чему, — перехватив взгляд, сказала жена. — Опять меня перебил! Обходился Северский своим гаремом, девок только молодых любил, не старше шестнадцати. И ни к кому не сватался.
— Это все матушка его, Анна Михайловна! — вновь встряла Суховская. — Карга еще та! Ни с кем здесь не дружит, от всех нос воротит. Мол, они князья, мы им не ровня. И Василию Васильевичу жениться не позволяла, кровь портить.
— Все княгини ужас как спесивы, — подтвердила Растоцкая. — Кусманской шестой десяток пошел, старой девой помрет! Жениха под стать так и не нашла!
— А почему за Северского не вышла? — удивился Терлецкий.
— Для нее и он недостаточно породист, — пояснила Растоцкая. — Долго перебивать-то будете? Дружила Анна Михайловна только со своей сестрой, Марией, она с сыном у них в имении проживала, но пару лет назад померла. Анне Михайловне стало скучно, и завела она себе компаньонку.
— Поболтать-то даже княгиням хочется, — быстро вставила Суховская.
— Выписала откуда-то дальнюю родственницу, Анастасию. Девица лет двадцати. Не знаю, о чем старая перечница собиралась с ней болтать, но Василий Васильевич общий язык с девушкой нашел быстро. Уж больно красивая…
— Как кобыла сивая, — снова вставила свое словечко Суховская.
— Гаремчик свой князь прикрыл, думали, к свадьбе дело идет.
— А его мамаша? — спросил у Растоцкой Федор Максимович. — Компаньонка что, княгиней оказалась?
— Да нет! Просто Анна Михайловна к старости совсем соображать перестала. Хоть и доктор при ней круглосуточно, и лекарствами всякими пичкают, а двух слов связать не может. Опять меня сбили!
— Думали все, скоро Василий Васильевич с Настей поженятся, — напомнил нить разговора заботливый муж.
— Вот-вот! А он взял и охладел к Насте! К Лизавете начал с цветочками ездить. Потом, вижу, вместе на лошадях прогуливаются, по пруду на лодочках катаются! А затем и руку с сердцем предложил.
— Чему ты, Вера, удивляешься? — пожала плечами Суховская. — Настя, хоть и благородна, да голь перекатная.
— Да, — подытожил Андрей Петрович. — У Северского с Берг имение крупнейшим в уезде станет.
— Твоя правда, Люсенька, — согласилась супруга.
— Вот как у людей бывает: один муж дуба даст, Боженька другого пошлет, следующий помрет, нате вам еще, пожалуйста. А у некоторых, — всплакнула Суховская, — любви, может и на шестерых хватит, а любить-то некого!
— А мы через Лизабеточку, может, отношения с Северским наладим, — высказала затаенную мысль Вера Алексеевна.
— А что такое? — поинтересовался Терлецкий.
— Судимся. Пятый год судимся, — расстроенно ответствовал Андрей Петрович. — Ничем, кроме охоты, Северский не занимается. А когда в раж входит, ему все равно, по чьей земле зверя гнать, по своей или по моей. Полей нам потравил — не счесть. Я поначалу терпел. Все-таки человек знатный, не чета мне. Потом поехал, высказал все, а он меня… — плечи Растоцкого задрожали. — Он меня из окна выкинул. Теперь судимся. Федор Максимович, — обратился он к Терлецкому, — не могли бы вы, голубчик, подсобить? Много лет дело тянется.
— Не надо, Люсенька, — перебила мужа Вера Алексеевна. — Даст Бог, через Елизабету помиримся. — И, увидев, что американец отстал, засмотревшись на какую-то осеннюю букашку, шепотом спросила: — Федор, с чего это ты переводчиком к американцу нанялся? В должности понизили? Или задание какое особое?
— Люсенька, глупости спрашиваешь, — громким шепотом заметил Растоцкий. — Конечно, задание.
— Даже слепому видно! Федор Максимович за карбонарием приглядывает, — поддержала Андрея Петровича Суховская.
— Карбонарии в Италии! Оленька, ты хоть «Инвалид» иногда читай, — укорила подругу Растоцкая.
Замученный своею миссией, Терлецкий ответил откровенно:
— Это, Вера Алексеевна, глупость канцелярская. Какой-то умник в нашем парижском посольстве, отправляя донесение, сообщил, что в Россию отправился американский этнограф Корнелиус Роос. И, желая блеснуть образованностью, перевел половину слова «этнограф» с греческого. Получилось «народный граф». К иностранцам и так внимание повышенное, а тут этакий гусь из Америки. Меня под видом переводчика и приставили до Петербурга сопровождать, вшей на станциях кормить.
Роос догнал кампанию, Растоцкая обратилась к нему по-французски:
— Вы женаты, граф?
Растоцкие имели трех дочерей на выданье и не пропускали в округе ни одного события, будь то бал, собрание, свадьба или похороны. Везде, где могли встретиться женихи, «Люсеньки» со своими красавицами были тут как тут. Со старшей ездили даже в Москву, на известную всей России ярмарку невест. Но остались недовольны: дом на зиму сними, платья на каждый бал всем новые пошей, приемы раз в неделю устраивай, а дороговизна в первопрестольной страшная. На обеды всякий сброд приходит: якобы женихи, а свататься и не думают. Поедят да уйдут. Насилу выдали. Удачно, правда, — за отставного майора из Твери, но с младшими решили повременить — авось, и поближе кто сыщется.
— Нет, не женат, — галантно ответил этнограф.
— Врет, — тихо по-русски сказал Терлецкий. — Две жены у него: одна в Америке, другая в Сахаре. Куда ни приедет, перво-наперво женится, для установления контакта с аборигенами.
— Это хорошо, — заметила Суховская. — Только тощий он какой-то.
— Нет, нам такие не нужны. Правда, Люсенька? — не ожидая ответа, спросила мужа Вера Алексеевна. — А юноши, которые со станции приехали, богаты?
— Один, я так понял, да, — ответил переводчик, — его отец обоим поездку в Италию оплатил.
— Светленький такой? — уточнила Растоцкая.
— Нет, с усиками, — поправил Терлецкий. — Но имейте в виду, Вера Алексеевна, они художники!
— Что из того? Не сапожники же! — рассмеялась помещица.
— Знавал я одного помещика, — начал рассказывать Федор Максимович. — Тоже малевать любил. Разденет какую-нибудь крепостную — и рисует, и рисует. Жена его смотрела на это, смотрела, а потом решила: чем я хуже? И пятерых детишек родила. От соседа.
— Да и пусть себе рисует, — постановила мать троих дочерей. — Главное, чтоб жену для рисований не раздевал. Пусть крепостными обходится.
— Зачем вам эти ясли? — спросила Суховская, имея в виду юный возраст Тучина и Угарова. — Дочек надо выдавать за людей состоявшихся, в летах.
— А потом им, как тебе, молодыми вдовами маяться? — рассердилась Растоцкая. — Вот я за Андрюшу вышла, когда мы оба юными были. И как живем хорошо, душа в душу!
Теперь приотстал Тоннер — заныло правое колено. Остановился, поразмял, заодно и прикинул: к чему бы? Как у ревматиков боли в суставе предсказывали перемену погоды, правое колено Тоннера предвещало любимую работу. Нет, не осмотр чьих-нибудь гланд и даже не роды! Колено чувствовало загодя только труп, нуждавшийся в немедленном тоннеровском вскрытии. Илья Андреевич служил на кафедре акушерства и патологоанатомии своей alma mater — Медико-хирургической академии. Входило в моду рожать с участием солидного доктора, а не по-старинному, с бабкой-повитухой; это обеспечивало Тоннеру финансовое благополучие. А возлюбленной «музой» доктора была патологоанатомия — вернее, судебная медицина. Втайне от всех работал он над первым российским судебно-медицинским атласом.
— Я забыла, а господина, который приотстал, как зовут? Замечательные у него бакенбарды! — спросила тем временем Суховская, которой нравились мужчины с буйной растительностью.