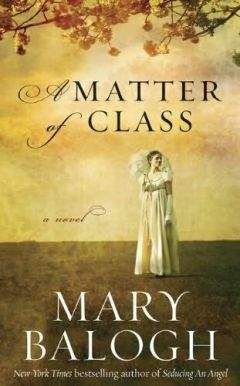— Вероятно, было двое детей, которых собирались определить в приют, — объяснил я Элис после того, как изложил подробности своего визита к Фиггинсам. — Примерно одного возраста. Один — мой друг, Джон Партридж, которого больная мать оставила на крыльце приюта с куском дерева и половинкой кольца. Джеймс Барроу подобрал его, взял в приют и позже отдал в ученики к Чиппендейлу.
— А второй? — Я с облегчением отметил, что мой рассказ заинтриговал Элис и она уже позабыла о своем раздражении.
— Второй — ребенок Монтфорта и Тренти, которого выкармливала миссис Фиггинс. Мальчик умер, находясь еще в ее доме; в приют он не попал.
— Почему же тогда мисс Аллен сказала мадам Тренти, что ребенок был отправлен в приют? Почему скрыла от нее, что он умер?
— Потому что она искренне верила, что говорит правду. Ни она сама, ни ее брат не знали, что ребенок умер. Это была тайна миссис Фиггинс.
— Зачем же ей было скрывать смерть ребенка?
— Причина проста: из-за денег. Монтфорт платил ей за труды. Ребенок умер в раннем возрасте, вероятно, из-за недосмотра, ибо я не верю, что она очень уж усердно радела о нем. Но миссис Фиггинс понимала, что деньги от Монтфорта перестанут поступать, как только он узнает о смерти ребенка. Поэтому она молчала и спокойно получала свое жалованье, пока ей не велели отвезти ребенка в Лондон. Вне сомнения, Монтфорту она доложила, что исполнила его распоряжение, и ни он, ни его сестра даже не подозревали, что на самом деле ребенок давно умер.
— А мадам Тренти по ошибке решила, что Партридж — ее сын, которого отдали в приют?
— Нет. Партридж тут вообще ни при чем. Он просто служил для мадам Тренти удобной заменой, поскольку собственного ребенка ей отыскать не удалось. Должно быть, Чиппендейл обмолвился при ней о том, что Партридж — подкидыш, и она воспользовалась этой информацией в корыстных целях.
Элис задумчиво кивнула. Пока в ее поведении не было и намека на то, что она простила меня. Она обращалась ко мне более открыто, но я понимал, что глупо рассчитывать на былую непринужденность с ее стороны. Тем не менее она свободно обсуждала со Мной результаты моих изысканий и впустила меня в свою комнату, где я сидел уже целых полчаса, и это позволяло надеяться, что она постепенно забывает о нашей размолвке и в скором времени мы станем близки, как прежде. Таким образом, когда все доводы были исчерпаны, я набрался смелости и предложил ей спуститься со мной вниз, чтобы выпить по бокалу вина и за ужином продолжить беседу.
Мы сошли в общий зал, где нас, сидя в кресле, ждал Фоули. При нашем появлении он поднялся и насмешливо вскинул брови, видя, что я веду к нему Элис.
— Очаровательно, очень мило, — пробормотал он настолько громко, что мы оба услышали его реплику, якобы обращенную к самому себе. Он взял руку Элис, низко поклонился и выразил глубочайшую признательность за ее неоценимую помощь в нелегком расследовании. Элис приняла его галантность как должное, но по победоносному блеску ее глаз я понял, что она польщена вниманием столь изысканно одетого джентльмена.
Не знаю почему, но их обмен любезностями вызвал у меня досаду, и я вздохнул с облегчением, когда церемония знакомства была завершена. После мы прошли в гостиную, заказали ужин, и я стал излагать Фоули последние новости. Элис вскоре извинилась, сказав, что ей нужно подняться в свою комнату, но через несколько минут она вновь присоединится к нам. Спустя полтора часа служанка сообщила, что телятина готова, и только тут я увидел, что стол накрыт на две персоны, а не на три. Я спросил, где мисс Гудчайлд.
— Как же так, сэр? — изумилась служанка. — Разве вы не знали, что у молодой леди изменились планы? Она уехала с полчаса назад, в повозке мистера Мортона. Сказала, что непредвиденные обстоятельства вынуждают ее срочно вернуться в Лондон, и ужинать она не будет. Она договорилась, чтобы конюх отвез ее в Кембридж, где она должна пересесть в дорожную карету, отбывающую в Лондон.
Признаюсь, это известие ошеломило меня.
— Она получила какое-то сообщение, заставившее изменить планы?
— Об этом мне ничего не известно, сэр.
В подавленном состоянии я подсел за стол к Фоули. Какой вывод мог я сделать для себя на основании ее поступка? Исключительно неутешительный. Ее поспешный отъезд без единого слова на прощание не оставлял сомнений в том, что она не только не простила меня, но и вообще считает, что я ей не пара и не достоин даже элементарного знака вежливости. Что со мной и прощаться необязательно.
Эта мысль сначала повергла меня в уныние, но потом мне захотелось выплеснуть свое разочарование. Я порывался тотчас же последовать за ней в Кембридж, потребовать объяснений по поводу внезапного исчезновения. И все же я сомневался, что это будет разумно. Лучше сделать вид, решительно сказал я себе, будто ее стремительный отъезд — самое обычное явление на свете. Чем лично выяснять отношения, лучше написать ей длинное письмо с подробным изложением всех своих обстоятельств. К тому времени, когда она прочтет его, вдали от меня, ее гнев наверняка уляжется, и она примет мои слова близко к сердцу. Едва эта идея возникла, я тут же отмахнулся от нее. Нет, все же лучше встретиться лично. Еще раз повиниться перед Элис, объявить ей о своих чувствах. Ибо недоразумения и обиды, омрачавшие нашу дружбу, не охладили мой пыл. Напротив. С каждым препятствием, которое она мне чинила, моя страсть только разгоралась. Я был абсолютно уверен, что еще ни одна женщина не волновала меня так сильно, как Элис, и будь что будет, но она должна знать об этом.
От избытка противоречивых чувств у меня пропал аппетит, и я тоскливо ковырялся в тарелке, за весь ужин проглотив лишь по крошечному кусочку мяса и пудинга. Единственным спасением для моих натянутых нервов было отличное вино. Правда, оно хоть и успокаивало, но не мешало размышлять о моих проблемах; я сидел и пил, почти не разговаривая с Фоули. Вести застольную беседу, тем более с Фоули, было выше моих сил. Его появление ускорило отъезд Элис. Если б не он, она, возможно, и сейчас еще была бы здесь. Поэтому я замкнулся в себе, раздумывая о своих неприятностях, и в ответ на все попытки Фоули разговорить меня отделывался лишь неучтивым хмыканьем; но он будто и не замечал моего мрачного настроения. Он с удовольствием съел первое и второе, промокнул губы салфеткой, готовясь приступить к фруктовому компоту, который подали на десерт, и только тогда позволил себе бесцеремонно вторгнуться в мои мысли.
— По дороге сюда я заезжал в Хорсхит-Холл. Вы, наверно, обрадуетесь, услышав, что Роберт Монтфорт уехал на два дня в Лондон. Элизабет осталась в Хорсхите с мисс Аллен.
Я равнодушно пожал плечами.
— Мне тоже нужно возвращаться в Лондон, чтобы продолжить расследование там. Здесь торчать бессмысленно, раз мне все равно отказано от дома.
— Напротив, Хопсон. Я настаиваю, чтобы вы вернулись в Хорсхит-Холл. Теперь для вас путь туда открыт, а мы, уверен, только начинаем раскрывать секреты, таящиеся в том доме.
Я отодвинул в сторону тарелку с недоеденным мясом и опять глотнул вина, силясь изгнать Элис из своих мыслей. Ее исчезновение и обилие выпитого спиртного уничтожили во мне былой оптимизм и решимость.
— Может, и так, — промямлил я. — Только ведь Роберт Монтфорт запретил мне появляться в его доме и пригрозил, что жестоко расправится со мной, если я ослушаюсь. И потом, каждый новый факт лишь осложняет расследование. У меня такое ощущение, будто я блуждаю по лабиринту и с каждым шагом запутываюсь все больше, так что никогда уж и не выбраться.
Губы Фоули скривились в подобии снисходительной улыбки, словно он забавлялся моим смятением.
— Не отчаивайтесь, мой друг, самый темный час всегда ближе всего к рассвету, — по-свойски отвечал он. — Я верю в вас. Вы непременно раскрутите эту интригу. Посмотрите, каких результатов вы добились сегодня. Если вам чего и не хватает, то вовсе не умственных способностей или проницательности, а упорства. Разумеется, сейчас нужно делать акцент не на том, был или не был Партридж родственником Монтфорта (мы знаем, что не был), а кто принимал его за такового.
Я опустошил свой бокал и вновь наполнил его. Фоули смущал меня, его хладнокровие бесило. Он не мог не заметить, что я расстроен, но игнорировал мое состояние, очевидно считая, что человек, которому он платит деньги, не вправе отвлекаться на собственные переживания. Я вспомнил, какое щедрое жалованье он положил мне за услуги, но раздражение не улеглось. Почему чувства, равно как и красивые экипажи, изысканные туалеты и большие дома, должны быть исключительно привилегией аристократов? Я глотнул вина, стараясь обуздать гнев.
— Что вы имеете в виду? — резко спросил я.
— Если Партридж представился Монтфорту сыном, которого тот давно потерял, кто еще мог знать об этом?
— Любой член семьи, любой, кто живет в этом доме.