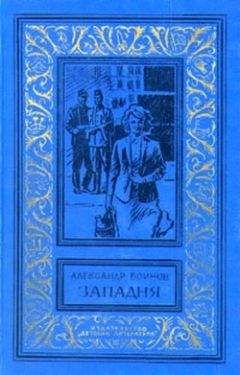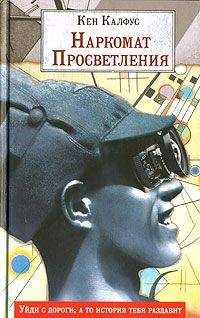Он пробовал протестовать:
— Не сейчас!.. Нам надо торопиться…
Но Тоня быстро скинула с себя гимнастерку и, разорвав ее на полосы, крепко стянула раненое плечо.
— Не так сильно!
— А ты хочешь истечь кровью?!
— Пойдем!.. Пойдем!.. — проговорил он и, собравшись с силами, с трудом поднялся; теперь ему была нужна опора, и Тоня осторожно обхватила его рукой, стараясь не касаться раны.
— Когда же тебя ранило?
— Когда?.. — Он кашлянул и со злостью выкрикнул: — Подольше бы ты со своим румыном болтала, так нас совсем бы прихлопнули!
В другое время Тоня стала бы защищаться, но сейчас она ощутила всю безмерность своей вины перед Егоровым. Все эти месяцы она держала его от себя на большом расстоянии не только для конспирации, но и потому, что Егоров сковывал ее своей постоянной утомительной заботой. Иногда она ловила себя на мысли, что, подавленное ежедневными, даже каждочасными тревогами, когда-то яркое чувство тускнеет, угасает.
И вот в эти минуты, темной ветреной ночью, на пустынном берегу, она вновь ощутила до боли нежность к Егорову. Нет, она не может, не имеет права его потерять. И если силы его окончательно покинут, и если он не сможет идти, она будет тащить его на себе, пока не иссякнут ее силы. А если их окружат, она знает, что сделает.
— Отдай револьвер! — сказала она.
Он пробовал отстоять свое право стрелять в случае опасности, но она решительным движением отобрала оружие.
— Слушайся меня, Геня!.. Обопрись о мое плечо… Идем, идем!..
Когда начало светать, они уже достигли небольшого перелеска позади Люстдорфа и спрятались в глубоком, заброшенном окопе.
— Федор Михайлович! Но ведь Савицкий приказал действовать немедленно! Я не могу отсиживаться тут до конца войны.
— Отсиживаться? Выбирай слова!..
Тоня тяжко перевела дыхание. Она сидела рядом с Федором Михайловичем, который лежал на соломенном тюфяке в низком каземате, освещенном желтоватым светом «летучей мыши».
Раненный в грудь, он потерял много крови, и если бы не партизанский врач Колесов, до войны лечивший глаза в клинике Филатова, а теперь единственная надежда партизан в случаях, требовавших немедленного врачебного вмешательства, он бы наверняка погиб.
Когда Коротков сказал Тоне, что Федора Михайловича убили в заварухе у входа в катакомбы, он был уверен, что его пуля достигла цели. Конечно, он не хотел играть комедию «спасения», но на этом настаивал Штуммер, понимая, что человек, который с ним встречался, потребует новых и более глубоких доказательств связи с руководством одесского подполья.
Скорее, скорее бы отсюда выбраться! Как хорошо сейчас на берегу моря. Шуршат тихие волны. А где-то там, вдалеке, где светло-голубое небо сливается с морем, плывет белый корабль. Год жизни — за один только час… да где там — за одну минуту счастья посидеть на берегу, всматриваясь в даль, ощущая на своих щеках порывы теплого соленого ветра!
Когда-то, перед войной, — это время казалось ей невероятно далеким — она прочитала «Шагреневую кожу» Бальзака. Многого тогда не поняла, и только теперь ловила себя на мысли, что понимает искушение человека, решившего заплатить самую высокую цену за миг счастья.
Кто знает, читал ли Федор Михайлович эту книгу, а если даже читал, то вряд ли его можно смягчить ссылками на классические примеры. Он и носа не позволяет Тоне высунуть из катакомб. Монотонно текущее время давит невыносимо. А с Егоровым, за жизнь которого уже можно было не беспокоиться — сквозная рана плеча начала заживать, пуля, к счастью, не задела кости, — она уже договорилась о необходимости установить связь с Леоном Петреску.
Савицкому стали известны многие обстоятельства, связанные с планами обороны Одессы гитлеровским командованием, и в штабе армии были разработаны новые задания разведгруппе.
По мере отступления вражеских армий у них оставалось все меньше надежных коммуникаций, по которым могло поступать снабжение. Поэтому Одесский порт превратился в одну из ключевых баз для всех южных группировок. Сюда из Констанцы приходили корабли с войсками и техникой, отсюда те же корабли вывозили раненых, хлеб и награбленное имущество.
Знать, что делается в порту, советскому командованию крайне важно. А по мере наступления нашей армии эта необходимость возрастала с каждым днем.
Радистка сама принесла в катакомбы расшифрованную радиограмму, в которой Савицкий настаивал на ускорении начала операции в порту. Конечно, формально Федор Михайлович не мог вмешиваться в дела военных разведчиков, но все же он понимал, что после похищения Фолькенеца на ноги подняты и гестапо и сигуранца. Нужно, чтобы прошло время, которое позволило бы разобраться в обстановке и понять, как следует действовать.
По отрывочным сведениям, которые просачивались в катакомбы, лавочка подверглась настоящему разгрому. Очевидно, искали документы. Конечно, ничего найти не могли — документы Федор Михайлович хранил совсем в другом месте. Но несомненно все, кто к этой лавочке был причастен, внесены в список разыскиваемых.
Опасность велика! Прежде чем выходить из катакомб, следует во что бы то ни стало установить, как относятся в гестапо к исчезновению Тони. Связывают ли с ней то, что произошло на берегу? Разыскивают ли ее или решили, что она погибла?
Пока прошло всего два-три дня, она еще может появиться, объяснив, что пряталась и, боясь нового нападения, приходила в себя от нервного потрясения. Найти человека, который подтвердит, что Тоня пряталась все это время в его доме, не так уж сложно, однако с каждым днем эти объяснения будут терять свою убедительность, и через неделю Тоня уже не сможет показаться в городе.
Так что буквально каждый час дорог.
Нет, Федор Михайлович не настаивал на том, чтобы Тоня оставалась в катакомбах. Но ведь неизвестна судьба Петреску.
Удалось ли ему убедительно объяснить фон Зонтагу и тем, кто несомненно его допрашивал, куда исчез Фолькенец и кто убил Штуммера и Зинаиду?
Конечно, ни Тоне, ни Егорову нельзя появляться в Одессе, пока не будут получены ответы на эти вопросы. Главное, если даже гестапо и не считает Тоню ответственной за все происшедшее, то о планах Штуммера в отношении ее наверняка знают его подчиненные.
Что же делать?.. В истории с Коротковым Тоня проходила проверку, серьезную и глубокую. И выдержала! Даже ликвидировала предателя. А как не просто убить человека, даже если это враг, Федор Михайлович понимал. Значит, Тоня уже не та девочка, которая казалась ему беззащитной, когда увидел ее в утро трагической гибели Андрюшки Карпова. Подумать только, как много пережито за эти несколько месяцев.
Опасность велика!
Но кто может разыскать Леона Петреску?.. А что, если Тюллер? Он ведь оставался наверху, в доме, и, конечно же, его никто не мог заподозрить в соучастии. Да и радистка рассказала, что видела его издали на Пушкинской. Значит, с ним все в порядке. Жаль, конечно, старика, потерявшего дочь. Какими бы сложными ни были их отношения, но дочь остается дочерью. Ужасно, что не удалось выполнить обещанное — не нанести ей вреда. Кто может объяснить Тюллеру, что она сама виновата в этом? Впрочем, он не может не понимать, что путь, который она себе добровольно избрала, не имел будущего.
Вечером, а о том, что наступил вечер, в катакомбах можно было узнавать, только справившись у дежурного, Тоня и Егоров подсели к нарам, на которых лежал Федор Михайлович.
— Инвалидная команда в сборе, — улыбнулся он сухими, потрескавшимися губами и, трудно вздохнув, стал переворачиваться со спины на правый бок.
Тоня нагнулась над ним.
— Я помогу! Осторожно, Федор Михайлович! Еще повязку собьете…
— Чертов подлец! — Все поняли, что Федор Михайлович выругал Короткова. — Вот так!.. Хорошо!.. Присядь, Тонечка, поговорим…
Егоров опустился у ног Федора Михайловича на пустой ящик от снарядов, а Тоня примостилась с другой стороны, прислонившись спиной к шершавой каменной стене.
Некоторое время Федор Михайлович молчал и только комкал одеяло, то сжимая, то словно пытаясь оторвать его от груди. Не хватало воздуха.
— Федор Михайлович, а хотите, мы с Геней вас ночью вынесем? На носилках!.. Подышите чистым кислородом, — сказала Тоня. Ей очень хотелось сделать для Федора Михайловича что-нибудь хорошее, доброе.
Поправляя одеяло, она невольно коснулась его пальцев и испуганно отдернула руку. Еще в детстве, от соседки, которая работала в больнице медицинской сестрой, она слышала, что когда у тяжелобольного холодеют руки, — значит, ему остается жить немного. Она просто не представляла себе, что он может умереть, он стал ей необходим, как отец, о котором почему-то она не могла теперь думать, не вспомнив тут же и этого недавно еще сильного, а теперь беспомощно лежащего человека.