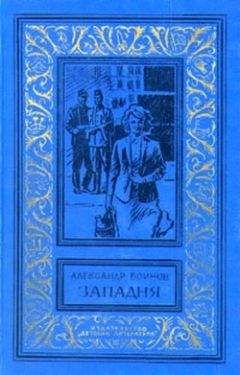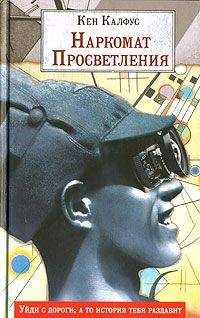— Он работает художником в театре. Пойди к нему, передай привет от Федора Михайловича и спроси, как я могу с ним увидеться. Скажи, что его хочет видеть очевидец того, что произошло на берегу. Он все поймет… Что говорят в городе о Люстдорфе?..
— Что там была какая-то перестрелка… Говорят, напали на немецкий штаб?
— Да не на штаб, — усмехнулся Егоров, — там у одного немецкого полковника было нечто вроде свадьбы, ну и…
— Понимаю!.. — Бирюков вновь взглядом ощупал его плечо. — Значит, во время этого дела тебя и царапнуло?
— Нет, не совсем там, — сказал Егоров; он решил, что не будет сообщать Бирюкову излишние подробности. — Ну как же?.. Можешь помочь?
— А ты где будешь ждать? — спросил Бирюков и, прочитав во взгляде Егорова безмолвную мольбу, строго сказал: — Ну ладно, оставайся!.. Но никуда до моего возвращения не выходи. К окну не приближайся… И вообще веди себя тихо, как мышь… А захочешь есть, в шкафу под окном вареное мясо, соленые огурцы, хлеб в буфете. После работы зайду в театр… Очевидно, все же до комендантского часа вы встретиться не сумеете. Придется тебе тут заночевать.
Бирюков вышел во двор, и, приподнявшись, Егоров видел в окно, как он идет к воротам, твердо ступая сильными ногами. Во всей кряжистой фигуре Бирюкова было что-то надежное, такие не предают.
А потом он долго сидел в тишине, прислушиваясь к монотонному звуку капель, падающих из крана на кухне.
Проснулся он поздно вечером, когда его растормошил Бирюков. Проспать почти десять часов, да еще днем!.. Ну и ну!.. Он пошевелил плечом, боль как будто бы поутихла…
— Прихватила меня какая-то холера!.. — извиняющимся тоном сказал он, присаживаясь на диване. — Никогда еще днем не спал.
— А я очень люблю, особенно после обеда, — улыбнулся Бирюков. — Да разве при такой жизни поспишь!.. Ну, был я у Тюллера в театре… Обходительный мужчина. Он что, немец?..
— Да, из колонистов.
— Чем-то очень расстроен… Говорит, согласен встретиться завтра в десять утра в сквере у вокзала. Ты его знаешь?
— Узнаю!.. Мне о нем много рассказывали.
— Когда я сказал ему насчет берега, он даже в лице изменился.
— Да уж! — Егоров сумрачно помолчал: он никогда не сможет признаться Тюллеру, что убил его дочь, но должен сказать правду, которая если не облегчит его душевное состояние, то, во всяком случае, снимет с совести тяжелое чувство личной вины. — Ну, как дела в порту? — спросил он.
— Судя по приметам, у немцев дела неважны. Раненых много грузят.
— А хлеб?
— Хлеб само собой… А главное — машины, даже заводы наши демонтируют. Конечно, понимают, что положение у них шаткое… Румын из порта поперли. Теперь немец командует… По фамилии Петри.
— А как охрана?
— По ночам с овчарками патрулируют. Тем грузчикам, которые работают в ночную смену, дают специальные аусвайсы.
— Боятся, значит?..
— Конечно. Через порт знаешь сколько каждый день солдат и снаряжения проходит! Девушке твоей будет много работы… Так когда же ты ее положение выяснишь?
— Да вот после встречи с Тюллером.
Они поужинали вареным мясом, попили чаю, и Егоров снова заснул крепким сном. «Ну и нервы у этого парня, — думал Бирюков, ворочаясь на своей жесткой постели, — мне бы такие… Сбросить бы десятка полтора лет… Вот она, молодость».
До глубокой ночи он напряженно прислушивался и даже раза два выходил во двор. Почему ничего не слышно? Почему? Неужели что-то помешало?!
И вдруг уже в предрассветной тишине со стороны порта донесся тяжелый удар. Затем после паузы — второй взрыв, более сильный.
— Та-ак! — прошептал Бирюков. — Интересно, сколько же цистерн полетело к чертовой бабушке?
Сон так к нему и не пришел.
Он оказался на берегу единственным живым. Прибежавшая охрана нашла его лежащим среди камней невдалеке от трупа Штуммера. В правом боку — сквозная огнестрельная рана, не опасная для жизни, но все же лишившая возможности сопротивляться. Глубокая царапина на правом виске свидетельствовала о том, что, падая, Петреску сильно ушиб голову, и последовавшая за этим потеря сознания объясняла, почему он ничего не может сказать о бесследно исчезнувших Фолькенеце и Тоне.
Трое автоматчиков с трудом втащили его по каменной тропе на вершину обрыва и внесли в раскрытые двери дачи.
Встревоженный Тюллер ожидал на пороге. Он уже догадался, что с Зиной случилась беда. Когда следом за Петреску внесли ее и положили на диван в той самой комнате, где полчаса назад играла музыка и танцевали гости, он опустился на стул и долго сидел молча, старчески сутуля плечи.
Леон лежал в соседней комнате на узкой кровати. Ефрейтор из охраны деловито наложил на рану бинт, умело затянул узел и предложил коньяку.
— Дайте! — согласился Леон.
Ефрейтор налил из бутылки половину рюмки и протянул ее Леону.
— Господин полковник, говорят, сто капель коньяку создают литр крови! — пошутил он, сверкнув крепкими белыми зубами.
Леон выпил и устало откинулся на подушку. Ни на секунду не забывать, что каждое произнесенное слово, каждое движение, каждое проявление чувств могут стать свидетельствами «за» или «против» него.
Он не имеет права ошибаться ни в одном из своих показаний.
Так как же развивались события? Он спустился с Тоней к морю, чтобы объясниться ей в любви. Конечно, он ничего не знал о том, что она связана со Штуммером, и не догадывался о причинах его нервозности. Штуммер весь вечер ухаживал за Тоней, и это стало одной из причин, почему надо было увести ее на прогулку. Но все же Штуммер не оставил их в покое и пошел за ними. Втроем некоторое время они гуляли на берегу. За ними следовал автоматчик из охраны. Потом Штуммер предложил позвать Фолькенеца и Зину и настоял на том, чтобы за ними пошел он, Петреску. Чтобы не осложнять отношений, пришлось подчиниться. Когда Фолькенец и Зина уже спускались к берегу, он поспешил вперед, чтобы устроить жениху и невесте шутливую встречу. Однако на том месте, где он оставил Штуммера и Тоню, их не было. Тогда он поспешил дальше, к большим камням, решив, что, может быть, Штуммер захотел от него избавиться. И вдруг споткнулся о его тело.
Штуммер лежал на песке ничком. Тони рядом не было. Он нагнулся, чтобы выяснить, что с ним стряслось, но в этот момент совсем близко, почти в упор, из-за камней прогремел выстрел, обожгло правый бок.
Падая, он ударился головой о камень и, теряя сознание, услышал еще выстрелы. Вот и все, что он может показать на следствии.
Где Фолькенец и куда делась Тоня, он не знает.
Фон Зонтаг, едва добравшись до штаба, где уже знали о событиях в Люстдорфе, отдав несколько неотложных распоряжений, сразу же помчался назад. Он едва успел позвонить в гестапо, чтобы оттуда на место происшествия выехали сотрудники Штуммера.
Он мог ожидать чего угодно, но не столь трагической развязки прекрасного вечера, который он провел в избранном кругу.
Конечно, фон Зонтаг знал о том, что Штуммер ведет сложную игру с русской девушкой. Но ведь как будто эта девушка доказала свою преданность не только спасением офицера, но и тем, что сумела выполнить несколько серьезных заданий.
Фон Зонтаг одобрял эти планы. Обстановка усложнялась, и получение максимальной информации о нарастающем сопротивлении в городе было крайне необходимо.
Однако то, что произошло в Люстдорфе, было происшествием чрезвычайным, которое, конечно, бросало тень на него лично и могло отразиться на его карьере.
Сейчас все эти планы Штуммера не то что рухнули — они мгновенно забылись под ударами, последствия которых для себя фон Зонтаг даже не мог предвидеть.
Когда фон Зонтаг мчался по темному шоссе к Люстдорфу, то еще надеялся, что Фолькенеца найдут живым или мертвым где-нибудь на берегу.
Он даже предполагал, что Фолькенец преследует группу бандитов и через некоторое время или сам явится, или даст о себе знать.
Когда в синеватых лучах фар призрачно заметались фигуры солдат, блокировавших дорогу при въезде в Люстдорф, он приказал шоферу остановить машину.
Однако здесь еще ничего толком не знали. Подбежавший лейтенант испуганно доложил, что только что к берегу промчалась машина с эсэсовцами и ему приказали у всех тщательно проверять документы. «Удивительно, — подумал фон Зонтаг, — где же они меня обогнали?»
Когда он переступил порог дачи, двое эсэсовцев уже допрашивали Тюллера и Петреску.
Худощавый эсэсовец с узким лицом и голубоватыми глазами сидел перед Тюллером, упорно смотревшим в одну точку, и выспрашивал подробности происшедшего.
— Господа, я ничего не знаю, — говорил Тюллер. — Все шло прекрасно! Была помолвка, моя дочь должна была выйти замуж… Господин Фолькенец ведь ее очень любит… Все ушли на берег, а я остался здесь… Заваривал кофе… А потом мою дочь убили!..