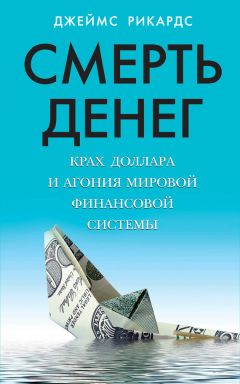Поначалу он имел страх божий, но с годами осмелел, утратил чувство меры, как в то время называли инстинкт самосохранения, и в один прекрасный день с ужасом обнаружил, что утаить грех невозможно. В отчаянии он бросился к купцам-компаньонам, те показали ему дулю. Чтобы покрыть растрату, пришлось занимать деньги в разных местах и под большие проценты. Возвращать было нечем, кредиторы потянули его в суд. Часть долгов Анкудинов заплатил, для чего опять запустил руку в приказную кассу, но латать этот тришкин кафтан с каждым разом становилось все тяжелее. На службе надвигалась ревизия, заимодавцы грозили тюрьмой. Самым безжалостным из них оказался его кум, подьячий Посольского приказа Василий Шпилькин. Выезжая с посольствами в Европу, он брал с собой низкосортный пушной товар, не подпадавший под закон о казенной монополии на торговлю мягкой рухлядью, и там сбывал его с огромными барышами. Члены дипломатических миссий пользовались правом беспошлинной торговли, на этом и взошел его капитал, умело преумноженный ростовщичеством. Напрасно Анкудинов взывал к его милосердию, Шпилькин был неумолим.
Архиепископ Варлаам давно умер, отец тоже лежал в могиле, а мать Соломонида провдовела недолго. Она снова вышла замуж и на просьбы сына продать дом и хозяйство, чтобы помочь ему в беде, отвечала отказом. Ждать помощи было неоткуда, впереди маячили кнут и Сибирь. Анкудинов решил бежать за границу, в Польшу.
Собираясь в дорогу, он прихватил с собой бурый камешек размером с перепелиное яйцо, неприметный на вид, но хорошо известный докторам и алхимикам. Это был чудесный камень безвар, имеющий «силу и лечбу великую от порчи и от всякой болезни». Такие камни раз в сто лет находят в коровьих желудках. В свою счастливую пору Анкудинов выиграл его в зернь у пьяного лекаря-немца из Кукуйской слободы и отказался вернуть хозяину, когда наутро, проспавшись, тот хотел выкупить назад свое сокровище. Позднее, загнанный кредиторами, он пытался его продать, но того лекаря не нашел, а другие или не знали безвару настоящей цены, или норовили купить обманом, по дешевке. Анкудинов думал сбыть его за границей. Он полагал, что обманщиков там меньше, чем в Москве, а образованных людей – больше.
Той осенью ему исполнилось двадцать шесть лет. Его дочери шел десятый год, сыну – четвертый. Вечером накануне побега он отвел обоих детей к сослуживцу по имени Григорий Песков, под каким-то предлогом оставил их у него ночевать, а сам вернулся домой, вызвал к заплоту дежурного пристава при жившем через забор шведском резиденте и, стоя перед ним в одной рубахе, матерно попенял ему, что не может уснуть, потому что на дворе у шведов собаки громко брешут. Пристав хорошо запомнил этот разговор.
На исходе был сентябрь 1643 года. Ночи стояли непроглядные, беззвездные, но дожди еще не зарядили, после июльских гроз бабье лето выпарило из бревен всю влагу. В глухой час задолго до рассвета Анкудинов с четырех сторон подпалил собственный дом, предварительно обложив нижние венцы соломой, и скрылся. В набат ударили, когда огонь уже охватил крышу. К счастью, ветра не было, даже ближайшие усадьбы удалось отстоять.
Дознание проводил концовский староста, на нем пристав показал, что сосед с вечера лег спать у себя в избе и, значит, тоже сгорел. Где в ту ночь находилась его жена, осталось неизвестно. Впоследствии утверждали, будто Анкудинов запер ее, спящую, в горнице и сжег дом вместе с ней, но эта официальная правительственная версия вызывала недоверие уже одним тем, что активно использовалась в попытках вернуть беглеца на родину. Предъявляя ему обвинение в женоубийстве, московские эмиссары за рубежом требовали выдать его как преступника уголовного, а не политического.
К обеду Шубин настучал три страницы, но были сомнения, верно ли выбран тон. Он позвал жену и вслух прочел ей написанное.
– Слишком академично, – сказала она. – Как-нибудь свяжи все с сегодняшним днем, а то они тебе меньше заплатят.
Шубин поинтересовался, как она себе это представляет.
Жена взяла со стола чистый лист и вышла с ним в кухню. Минут через десять вернулась, молча подала ему листок и застыла в ожидании приговора. Лицо ее еще туманилось недавним вдохновением.
«Все мы помним, – прочел Шубин, – сколь изощренной бывала наша пропаганда в тех случаях, если сверху поступал заказ оклеветать человека, бежавшего за границу. Его обливали грязью и обвиняли во всех смертных грехах, лишь бы настроить против него общественное мнение на Западе».
– Не нравится? – упавшим голосом спросила жена.
Пришлось признать, что написано неплохо. Она приободрилась.
– Вставь это после истории про его жену.
Шубин обещал, но как только за ней закрылась дверь, сунул листок в кипу черновиков, которые подстилались в мусорное ведро вместо газеты. Газет они теперь не выписывали.
Недостаток аллюзий удалось возместить картиной ночного пожара. Гудело пламя, столбом поднимались к небу огненные брызги, пылающие головни разлетались по Тверской. К утру дом превратился в груду углей, даже медная посуда расплавилась от страшного жара. На пожарище копались разве что нищие, а они человеческих костей не искали. Анкудинов на это и рассчитывал. План строился на том, что его сочтут сгоревшим до зольной трухи, обратившимся в пепел.
«Чтобы перевоплотиться в царевича из рода Шуйских, он должен был стать не беглецом, а мертвецом», – отстучал Шубин последнюю фразу и пошел обедать.
На первое был овсяный суп, на второе – полбаночки детского мясного питания с гречневой кашей. Дефицитная в советское время гречка свободно продавалась в магазинах. Соседка с восьмого этажа, сторонница реформ, умело использовала этот разящий факт в полемике с шубинской тещей. Они вели ее во дворе, выгуливая внуков.
Вечером Жохов перезвонил.
– Ты тогда у Гены рассказывал про монголов, – начал он без предисловий. – Можешь достать монгольскую юрту?
Шубин удивился, но не очень.
– Зачем тебе?
– Понимаешь, у меня тут обрисовался человек из Ташкента, отдает партию узбекских халатов под проценты с продажи. Практически без предоплаты. Берем их, гоним в Ниццу, ставим юрту на Лазурном Берегу и торгуем из нее этими халатами. Ночуем в ней же.
– Юрта монгольская, а халаты узбекские, – сказал Шубин.
Жохов отреагировал мгновенно:
– Да кто там разберет!
По нынешним временам идея была не самой экстравагантной. Теща все время подбивала Шубина подумать о семье и что-нибудь возить на продажу туда, где этого нет. Ей казалось, что нигде, кроме Москвы, нет ничего хорошего, задача сводилась к выбору любого пункта на карте, исключая Ленинград, и любого товара, доступного семейным финансам.
Все вокруг хотели что-то кому-то продать. Недавно соседка с десятого этажа, в прошлом балерина Большого театра, предлагала купить у нее полтора километра телефонного кабеля, лежавшего на заводском складе где-то под Пермью. Она пыталась соблазнить им всех соседей. Жена так долго объясняла ей, что им это не нужно, что почувствовала себя виноватой.
Шубин стал прикидывать, к кому можно обратиться насчет юрты.
– Ну что, достанешь? – спросил Жохов.
– Попробую. Позвони денька через два.
Он обещал, но не позвонил.
Через одиннадцать лет они с женой ехали из Улан-Батора в Эрдене-Дзу. Расстояние от столицы до аймачного центра Хар-Хорин, где находился монастырь, составляло около четырехсот километров. Для старенькой «хонды» Баатара, ровесницы августовского путча, это было немало, но дорога оказалась лучше, чем Шубин ожидал. Идеально прямая, недавно отремонтированная китайскими рабочими трасса вела строго на запад. По обеим ее сторонам плыла голая осенняя степь, лишь иногда на этой однотонной плоскости чуть более темным и рельефным пятном возникала овечья отара, похожая на низко стелющийся над землей дымок. Сколько бы ни было в ней голов, она все равно казалась ничтожной по сравнению с окружающим простором. Рядом с овцами неизменно чернела фигурка всадника. Одинокие юрты показывались вдали не чаще чем раз в четверть часа, парные – еще реже.
Жена смотрела в окно, а Шубин пытался выудить из Баатара крупицы той мудрости, которой оделили его норвежские и корейские миссионеры. Баатар отмалчивался, но в конце концов рассказал, как один из норвежцев говорил им, что не случайно китайский иероглиф «запад» по форме похож на двух людей под деревом. Если буквально перевести это слово, оно означает: место, где двое живут в саду. Эти двое – Адам и Ева, сад – райский. Значит, предки нынешних китайцев знали про Эдем, а потомки позабыли.
– Ты в это веришь? – спросил Шубин.
Баатар поймал в зеркальце его взгляд и покачал головой.
– Китайцы никогда ничего не забывают. Они помнят, что им у нас было хорошо, как в раю, и хотят вернуться.
– Они трудолюбивые. Зря вы их не любите, – сказала жена.
Вдруг Баатар притормозил, указывая вперед и вправо. На обочине стая полудиких монгольских собак безмолвно терзала павшую лошадь. Она лежала на боку, маленькая, с окостеневшими ногами и разорванным животом. Зиявшая в нем красно-сизая полость казалась ненатуральной, как муляж. Неприятно было видеть, что все эти псы, голова к голове роясь у нее во внутренностях, нисколько не мешают друг другу.