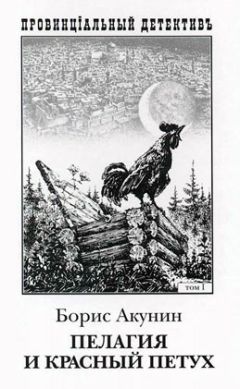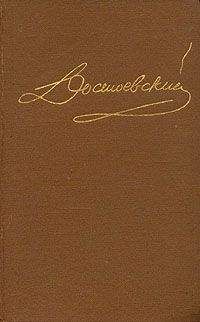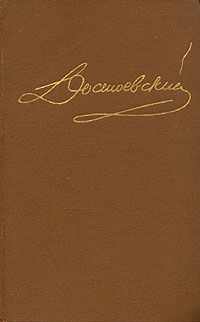Кто-то схватил ее за руку и рывком развернул.
Пелагия и Салах так сосредоточенно смотрели в спину человеку с посохом, что не заметили, как к ним подкрался еще один.
Это был мужчина устрашающего вида. Бородатый, широкоплечий, с плоским свирепым лицом. За плечом его торчал приклад карабина. На голове был повязан арабский платок.
Одной рукой незнакомец держал за шиворот Салаха, другой — за локоть Пелагию.
— Что за люди? — прошипел он по-русски. — Почему таитесь? Против него умышляете?
Кажется, он лишь теперь разглядел, что перед ним женщина, и локоть выпустил, но зато схватил палестинца за ворот обеими руками, да так, что почти оторвал от земли.
— Русские, мы русские, — залепетал перепуганный Салах.
— Что с того, что русские! — рыкнул ужасный человек. — Его всякие сгубить хотят, и русские тож! Зачем тут? Его поджидали? Правду говорите, не то…
И взмахнул таким здоровенным кулачищем, что бедный палестинец зажмурился. Богатырь без труда удерживал его на весу и одной своей ручищей.
Оправившись от первого потрясения, Пелагия быстро сказала:
— Да, мы ждали Эммануила. Мне нужно с ним говорить, у меня для него важное известие. А вы… вы кто? Вы из «найденышей», да?
— «Найденыши» — это которые свою душу спасают, — с некоторым презрением молвил бородач. — А я его спасать должон. Моя душа ладно, пускай ее… Только бы он живой был. Ты сама кто?
— Сестра Пелагия, монахиня.
Реакция на это вроде бы совершенно безобидное представление была неожиданной. Незнакомец швырнул Салаха наземь и схватил инокиню за шею.
— Монахиня! Ворона черная! Это он, кощей, тебя прислал? Он, он, кто ж еще! Говори, не то глотку разорву!
Перед лицом помертвевшей Пелагии сверкнуло лезвие ножа.
— Кто «он»? — выдохнула полузадушенная, переставшая что-либо понимать сестра.
— Не бреши, змея! Он, самый главный над вашим крапивным семенем начальник! Вы все на него шпиёните, заради него пролазничаете!
Главный над крапивным семенем, то есть над духовенством начальник?
— Вы про обер-прокурора Победина?
— Ага! — возликовал бородатый. — Созналась! Лежи! — пнул он попытавшегося сесть Салаха. — Я раз уж спас Мануилу от старого упыря, и сызнова спасу! — Широкий рот оскалился в кривозубой улыбке. — Что, поминает, поди, Кинстянтин Петрович раба божьего Трофима Дубенку?
— Кого? — просипела Пелагия.
— Неужто не сказывал тебе, как святого человека облыжно в покраже обвинил да в кутузку упек? А меня сторожить приставил. Я при Кинстянтин Петровиче сколько годов псом цепным прослужил! Так и сдох бы собакой, не поднялся бы до человеческого звания! «Ты, говорит, Трофимушка, постереги этого вора и смутьяна, он человек опасный. Нет у меня доверия к полицейским стражникам. Дозавтра постереги в участке, не давай ему ни с кем разговоры разговаривать, а утром я приказ добуду, в Шлисельбурскую крепость его перевести».
Пелагия вспомнила рассказ Сергея Сергеевича о краже у обер-прокурора золотых часов. Вот что на самом деле-то произошло! Не было никакой кражи, и не отпускал великодушный Константин Петрович мнимого воришку, а совсем напротив. Усмотрел многоумный обер-прокурор в бродячем пророке какую-то нешуточную для себя опасность. Для начала засадил в полицейский участок и приставил своего подручного, а потом озаботился бы и поосновательней упечь — побединские возможности известны.
— Вы Эммаунилу с другими стражниками разговаривать не позволили, а сами с ним поговорили, да? — произнесла сестра с интонацией не вопросительной, а утвердительной. — Пустите, пожалуйста, горло. Я вам не враг.
— Поговорил. Никогда в жизни со мной никто так не говаривал. Уж на что Кинстянтин Петрович языком плести мастер, а только его слова против Мануйлиных — одна шелуха.
Пальцы Трофима Дубенко остались на шее монахини, но уже не сжимали так сильно, да и рука с ножом опустилась.
— И вы вывели арестанта из полицейского участка? Но как вам это удалось?
— А просто. По ночному времени там у дверей всего один мундирный сидел. Стукнул его кулаком по загривку, и вся недолга. А потом говорю Мануйле: на край света за тобой пойду, потому что ты постоять за себя не умеешь. Пропадешь один, а тебе жить должно, с человеками разговаривать. Только не взял он меня. Не нужно, говорит, и не положено. Один я должон. А за меня, говорит, не бойся — меня Бог обережет. Ну, не хочет — я насильно вязаться не стал. С ним не пошел, а за ним пошел. Куды он, туды и я. Бог, он то ли обережет, то ли нет, а Трофим Дубенко точно в обиду не даст. Который месяц за Мануйлой хожу. По Расее-матушке, по морю-океану, по Святой Земле. Он человек блаженный, никакой подозрительности в нем нету. Веришь ли — чуть не полземли за ним прошел, а ему невдомек. Только на глаза ему не лезь, вот и вся хитрость. Он знаешь, как ходит? Никогда назад не оглянывается. Идет себе, палкой отмахивает. Даже под ноги не глядит. Только вперед или вверх, на небо. Еще, правда, по сторонам башкой крутить любит. Одно слово — блаженный.
В голосе Мануйлиного телохранителя звучали нежность и восхищение, а Пелагия вдруг вспомнила про «чудо Господне», о котором рассказывала Малке.
— Скажите, а это вы в Иудейских горах разбойника-бедуина убили?
— С саблей-то который? Я. Вот, карабин у меня, в городе Яффе сменял. Часы у меня были именные, Кинстянтин Петровичем за службу даренные. Тьфу и на ту службу, и на него, кощея, и на часы его поганые. Да что разбойник! Мануйла что ни день беду на себя накликает. Если б не Трофим Дубенко, давно бы уж лихие люди его в землю зарыли, — похвастался бородач и вдруг осекся. — Ах ты, ловкая какая! Ишь, язык мне развязала. Давно по-нашему не говорил, вот и прорвало меня. Говори: ты от Победина или нет?
И снова взмахнул ножом.
— Нет, я сама по себе. И зла Эммануилу… Мануйле не желаю. Напротив, хочу его предостеречь.
Трофим Дубенко посмотрел на нее в упор. Сказал:
— Дай-ка.
И всю обшарил лапищами — искал, нет ли спрятанного оружия. Пелагия подняла руки кверху, терпела.
— Ладно, — разрешил он. — Иди. Только одна. Этот твой пускай тут останется. Но уговор: про меня молчок. Не то прогонит он меня, а ему без охранителя нельзя.
— Обещаю, — кивнула сестра.
В первую минуту показалось, что внутри ограды опять пусто.
Монахиня прошла, озираясь, из конца в конец, но никого не увидела. А когда в недоумении остановилась, из самой середины сада донесся голос, мягко спросивший что-то на неизвестном Пелагии наречии.
Лишь теперь она разглядела фигуру, сидевшую в траве у старого колодца.
— Что? — вздрогнула инокиня, остановившись.
— Ты 'усская? — произнес голос, по-детски картавя на букве «р». — Я сп'осил, что ты ищешь? Или кого?
— Что это вы делаете? — пролепетала она.
Человек сидел на земле совершенно неподвижно, весь залитый белым лунным светом. От этой самой неподвижности она его и не заметила, хоть давеча прошла совсем рядом.
Нерешительно приблизившись, Пелагия увидела худое лицо с широко раскрытыми глазами, клочковатую бороду (кажется, с проседью), выпирающий кадык и высоко поднятые брови, словно пребывающие в постоянной готовности к радостному изумлению. Стрижен пророк был по-мужичьи, в кружок, но давно, не менее полугода назад, так что волосы отросли и свисали почти до плеч.
— Жду, — ответил Мануйла-Эммануил. — Луна еще не совсем в се'едине неба. Это называется «в зените». Нужно немножко подождать.
— А… а что будет, когда луна окажется в зените?
— Я встану и пойду вон туда. — Он показал в дальний угол сада.
— Но там же забор.
Пророк оглянулся, словно их кто-то мог подслушать, и заговорщическим шепотом сообщил:
— Я п'оделал в нем ды'ку. Когда был здесь 'аньше. Одна доска отодвигается, и тогда че'ез монастый можно подняться на го'у.
— Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору, — тоже понизила голос Пелагия. Он вздохнул.
— Не знаю. Я п'обовал, не получается. Наве'но, всё должно быть в точности, как тогда. Но главное, конечно, полнолуние. Я совсем п'о него забыл, а тепей вспомнил, 'аньше-то Пасха всегда в полнолуние, это тепей евъеи всё пе'епутали.
— Что перепутали? — наморщила лоб сестра, тщетно пытаясь найти в его словах смысл. — Зачем вам полнолуние?
— Я вижу, ты п'ишла сюда, чтобы погово'ить со мной, — сказал вдруг Эммануил. — Гово'и.
Пелагия вздрогнула. Откуда он знает?
А пророк поднялся на ноги, оказавшись на целую голову выше монахини, и заглянул ей в лицо. В его глазах поблескивали лунные искорки.
— Ты хочешь меня о чем-то п'евенти'овать, — произнес картавый щурясь, словно читал вслух в полутьме и от этого ему приходилось напрягать зрение.